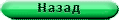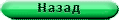СВИДАНИЕ
… а я сказал, что можно и не на метро и повез моих знакомых иной, непривычной им дорогой. Когда-то давно это был как бы основной маршрут, по которому мы, жители небольшого, тогда еще подмосковного поселка, добирались в город и обратно. Метро еще до нас не доходило и, возвращаясь из города, мы ехали на электричке, выходили на станции и потом примерно три километра шли пешком через парк и по прилегающим к нему царицынским улочкам. Иногда можно было доехать и на автобусе, стареньком, потрепанном «газике», который временами курсировал между станцией и нашим поселком, но чаще мы все-таки возвращались домой пешком.
Сам я уже давно не пользовался этой дорогой, но иногда оказывался где-то поблизости от знакомых с детства мести примерно знал, что все там было отдано под снос в разгроме и запустении, ожидая наступления штампованных, бетонных монстров во множество этажей, наползающих на маленький островок деревьев около Царицынского пруда. В неумолимом движении прогресса и цивилизации, уютные деревянные усадебки выламывали, асфальтовые дорожки срывали и чьей-то волей, непреклонной и как мне казалось, безумной, весь этот район шел под сноси уничтожение.
Мне давно хотелось взглянуть, как там обстоят дела в полузабытой, исчезающей стране моего детства на теплых, уютных асфальтовых дорожках с проросшей через трещинки травой и у звонких деревянных мостков, проложенных через ручейную пойму. Вот я и уговорил моих знакомых на это скромное и, как казалось, ни к чему не обязывающее путешествие.
Я неплохо помнил дорогу, так как в детстве ходил по ней очень часто с братом, с родителями. И были они тогда молодые, веселые, уверенные в себе и всегда заботились обо мне, как о самом младшем, а сами походы в город имели по большей части прекрасное предназначение: в кино, на ВДНХ или еще куда, где было мороженое и вкусная шипучая вода за три копейки стакан с сиропом. И путешествие через парк по утрамбованным, светло-глинянным дорожкам как бы предшествовало этим грядущим замечательным событиям, и дорога до станции проходила как-то очень быстро и интересно.
В парке меня встречали знакомые с раннего детства деревья. Царицынский пруд поблескивал через листву, и длинные водоросли играли в тёмной воде ручьёв под мостками, а с переходного моста через железнодорожные пути было видно далеко-далеко в страны неведомые и таинственные, откуда огромные черные паровозы привозили вереницы закопченных вагонов, груженных всякой всячиной. Они медленно и торжественно проползали под мостом, как бы демонстрируя мне свои небывалые сокровища, а иногда, если особенно везло, можно было попасть в дым от паровоза, пыхтящего внизу на рельсах, как огромное и трудолюбивое животное. Но это случалось редко, так как взрослые дым не любили и обычно в начале пешеходного моста так старались рассчитать время перехода. Чтобы паровоз им не попался.
Мы вышли на станции и за нами с шипением закрылись двери электрички, а потом она, лязгнув буферами, умчалась в ночь. Расписание движения поезда было мне незнакомо. На вокзале мы долго искали, где и как на него сесть, долго его ждали и ехали почему-то тоже долго. Поэтому, когда мы вышли на станции, время было уже позднее и тёмное. Наши редкие попутчики заспешили по платформе к тоннелям, где можно было сесть на автобус, а мы пошли к пешеходному мосту.
Стояла теплая и странная для звёздного неба, летняя ночь. На платформе было пустынно и тихо. Снизу от тоннеля под железнодорожными путями доносились звуки ночного города, но по мере того, как мы уходили по перрону, они все слабее доносились до нас, а вскоре и вообще пропали.
Поднимаясь на мост по разбитым ступеням, за которыми никто и, кажется, уже давно не следил, я подумал, что моя затея, наверное, не очень удачна и даже может быть не безопасна. Но покрытие моста оказалось почти в исправном состоянии, и тем самым я лишился возможности остановить наше путешествие и под благовидным предлогом вернуться обратно к автобусам. Хотя в этом месте и в это время и на автобусной остановке можно было запросто получить по лицу, но там горел свет, там, наверное, ещё оставались люди, вышедшие из электрички, а там, куда направлялись мы, было безлюдно, немо и темно.
Поднявшись по маршам лестницы наверх, мы увидели, что средняя часть пешеходного моста оказалась открытой и освещенной, а дальний его край терялся в тоннеле, образованном кронами деревьев, нависающих над ними, светлая полоса настила уходила, под тень деревьев, исчезая в темноте, как бы проглатываемая ими в ночь и черноту.
Когда мы поднялись на мост, моя спутница как-то сразу стала очень серьезной и внимательной ко всему, что было вокруг нас, а ее племянник принялся улыбаться и все время что-то непрерывно рассказывать и мне и ей. Под его разговоры мы неспешно прошли по мосту, и у водонапорной башни я посмотрел на маленькую дверцу, которая открылась в ней с настила моста. В неглубокой нише, как помнится, там всегда сидел профессиональный нищий и иногда с разрешения родителей, ему можно было дать монетку. Сейчас камни его давнего рабочего места были пусты, и только потертый до белизны порожек перед дверью напоминал о когда-то долгом присутствии на нём человека, множество раз встречающего и провожавшего меня на этом мосту.
Спустившись вниз, мы оказались на крохотной площади, которой кончалась улица, идущая от нашего посёлка. Раньше эта пристанционная улочка была своего рода Сити местных обитателей. Жилых домов на ней не было, а располагались только уютные торговые магазинчики, булочная, парикмахерская и присутственный дом тогдашней власти. И зимой и летом мне было всегда приятно приходить по ней, принимая ее камни и деревья в образе некого дома, в котором мне всегда были рады и всегда ждали моего прихода. И даже сейчас по прошествии многих лет, воспоминания о моей улице отзывались вкусом хрустящей горбушки свежего батона хлеба и запахом одеколона около парикмахерской. Они были восхитительными и волнующими, как и все те чудесные вещи, которые продавались в магазинчиках: квашеная капуста, провансаль, елочные игрушки, книжки про приключения и прозрачный керосин из низенькой и таинственной керосиновой лавки. А продавщица мороженого, которая всегда со своим фанерным ящичком на колесиках из подшипников, стояла у булочной в самом начале улицы. Стояла там всегда и была строга и справедлива, и никому даже и в голову не приходило проверять сдачу, отсчитанную с рубля после покупки ее прекрасного мороженого.
Я стоял на площади и по остовам разбитых, похожих на огромные черепа строений, пытался определить знакомые мне с детства места, но улица умирала долго и давно. Все на ней было переделано и перестроено, а потом разбито и разграблено. Кажется, только каменный особнячок исполкома уцелел. Но и в нем окна и двери были выбиты, зияя на нас чернотой из темных поверхностей обшарпанных стен. Всё было мертво и пустынно, но во всем ещё чувствовалась недавняя жизнь и эта страшная пугающая смесь мертвого и некогда знакомого и живого смотрела на нас отовсюду. Странно нарочитая, как специально приготовленные к нашему приходу декорации спектакля, сочиненного специально для нас и который нам ещё предстояло посмотреть. Я подобрал с асфальта не очень длинный обломок деревянного бруса, заботливо лежащего у моих ноги повел своих знакомых через площадь к узкой дорожке, по которой мы должны были выйти к деревянным мосткам через ручей.
Следуя друг за другом, мы вошли в темноту разбитых строений и деревья сомкнули за нами листву, как опустившимся занавесом закрывая первую смену декораций странного и незабываемого спектакля открывшегося нам по прихоти режиссера, скорее всего, талантливого и, наверное, безумного.
Мы шли по дорожке и слева от нас, на авансцене, виднелись сгоревшие остатки, как я помнил, небольшого штучного магазинчика. В нем потом еще была сберкасса, потом, кажется, располагался пункт проката лыж и опять магазин, в котором продавали одежду и ткани. А теперь только заросли кустов заполняли едва обозначенные стены, произрастая среди них по законам камня, спрятанного под землей и по своему вольному желанию закрывать и захватывать все, что попадалось им под корни.
По мере продвижения вперед заросли деревьев становились реже и за очередным поворотом дорожки нашему обозрению открылись двухэтажные деревянные дома сейчас полностью заброшенные, но еще с не умершими об утраченной жизни в их разгромленных подъездах и дворах. Эти дома построили совсем недавно, и они еще не успели стать старыми. Их дерево под штукатуркой хорошо сохранилось и не горело. И их брошенные остовы, не желая умирать, как немой укор покинувшим их людям, стояли очень долго, пока специально обученные рабочие не разбили остатки стен железными колотушками с кранов, превратив бывшие человеческие гнезда в груды мусора и праха.
И снова деревья занавесом своей темной ночной листвы закрыли от нас дома, а дорожка вывела нас к мосткам через ручьи. Мостки были длинные на деревянных сваях и проходили над поймой двух ручьев, между которыми располагался заболоченный островок. В детстве переход по ним был, наверное, одним из самых интересных моментов во всем путешествии на железнодорожную станцию. Проходя по настилу летом, можно было вести рукой по гладким перилам, отшлифованным до блеска прикосновениями многих ладоней, проходивших здесь людей и смотреть вниз на водоросли, извивающиеся в прозрачной воде под серебряный пересвет маленьких косячков веселых пескарей. Зимой доски, покрытые утоптанным снегом, так приятно пружинили и почти пели под ногами. И по ним к середине зимы раскатывали длинные ледяные катки-дорожки. Отец разрешал мне по ним кататься, а иногда и сам скользил по льду с разбега, вызывая тем самым мой полный восторги, по-моему, зависть и уважение осторожных прохожих. Сам же островок между ручьями имел в нашей семье официальное название «Необитаемый». Так и говорили, что сегодня идем через Необитаемый остров, а другая дорога на станцию вела через парк и с отцом или с братом мы чаще ходили по мосткам, а с мамой по дорожке в парке.
Сейчас мостики представляли собой жалкое зрелище. Почти все перила были сбиты и от них остались только вертикальные стойки, напоминающие собой торчащие ребра умершего, но еще не погребенного в землю тела. Сам настил был испорчен, а у дальнего и наиболее глубокого ручья и вовсе разобран. Но другой переправы поблизости не имелось и, осторожно пробуя доски ногой, я повел своих спутников на другой берег. Юноша все быстрее и громче нам что-то рассказывал, а женщина пробовала его успокоить, но он вроде бы ее и не слышал, а я не пытался его остановить.
С противоположного берега на нас темными глазницами выбитых окон смотрели брошенные деревянные дома, и под их долгим запоминающимся взглядом мы пробирались по мосткам, стараясь не провалиться вниз, ступать только по поперечным балкам настила. Когда мы выбрались на берег, дома стали неожиданно высокими и близкими. Мы шли рядом с ними, и в их темной глубине можно было различить выпотрошенные и разгромленные внутренности комнат, еще сохраняющих запах человеческого жилья.
Мы шли по немым и пустынным улицам, и на них тоже еще все обозначалось и пыталось сохраниться, как и на настоящих улицах, но было уже мертво и полностью беззащитно перед грядущим уничтожением. Пройдя мертвыми мостовыми, мы вышли на проезжую дорогу и двинулись дальше, обходя по ней верхнюю часть Царицынского парка. Пустынная полоса шоссе сделала поворот, и деревья своим лиственным занавесом милосердно закрыли от нас последние немые остовы брошенных домов. Но, уходя от них, мы еще долго чувствовали их прощальное и молчаливое присутствие за нашими спинами, когда они как будто тонкими паутинками воспоминаний еще пытались тянуться за нами, немо прося о помощи и снисхождении.
Дорога, по которой мы шли, была с детства знакома мне каждым своим поворотом. В те далекие уже времена по ней из поселка по вечерам часто ходили гулять, когда, например, приезжали гости или когда были праздники, или просто стояла хорошая теплая ночь и все вставали из-за стола и шли гулять. Мой отец молодцевато вышагивал по асфальту ночного шоссе, беззаботно помахивая прутиком, а мама пела, и голос у нее был молодой и звонкий. Сладкий воздух ночи входил своими ароматами в легкие, и жизнь казалась бесконечной и сиятельно прекрасной. Такой же, как и блещущее алмазами звезд небо. А теперь на дороге было пустынно и тихо и даже знакомые с детства соловьи молчали, как будто их и не было никогда в Царицынском парке.
Мы спустились к мосту, прошли мимо спрятавшегося в парке хуторка, в котором еще ироде бы кто-то жил и после последнего поворота расступившиеся деревья парка открыли нам близкие огни поселка. Я аккуратно поставил в кусты обломок бруса. Шедшая рядом со мной женщина перестала быть очень серьезной, а юноша прекратил свой безостановочный монолог.
Дома мы выпили чаю, посмотрели телевизор и разошлись по комнатам спать. Вскоре они уехали, а я все никак не мог забыть наше ночное путешествие.
Я вспоминал, как мы беспрепятственно прошли весь наш странный маршрут, не встретив ни единого живого существа. Никакое постороннее движение не отвлекало нашего внимания. Неодушевленные, как это принято считать, проявления природы дарили нам свое благосклонное расположение, и абсолютная неподвижность теплого ночного воздуха ласкала наши лица, словно целуя их.
Я постоянно пытался выбрать время и еще раз сходить туда и еще раз все как следует посмотреть и запомнить, но…
Теперь эти места изменились неузнаваемо. Прощай, прощай забытый и почти сказочный уголок моего детства! Прощайте теплые асфальтовые дорожки с проросшей через трещинки травой! Прощай веселый кленок, с которым мы родились в одно летои у которого я потом мерился ростом: кто и на сколько вытянулся за год. Вас больше нет. Пришлый, горластый и разворотистый бетон оказался куда сильнее вашего тихого волшебства.
Простите меня за то, что я ничего не смог сделать для вас и сам сейчас живу по его бетонированным, прямоугольным законам …
Говорят, что хорошие люди попадают в рай. А куда попадают деревянные мостики через ручей, фанерный ящичек для мороженого и красивые умные растения? В мою память, наверное. Там все сохранилось почти без изменений. И теперь по прошествии многих лет, я все еще волен по своему усмотрению, вспоминать беззаботную, детскую радость, которую они щедро дарили мне, и ту памятную летнюю ночь, когда немые и поруганные они предстали передо мной в последний раз.