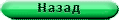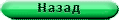БЕРГИЛЕВСКИЙ ОВРАГ
Когда в мальчиковый туалет вошел Петерс, Олежка уже получил по первому разу и придерживая руками набитое лицо, стоял около окна, готовясь к продолжению экзекуции, а Ромку только еще начинали выстанавливать, чтобы бить. Процесс выстановления затянулся, поэтому Петерс, которого бить вовсе были и не должны, и успел прибежать. Установление жертвы для избиения занимало едва ли не самое главное место в осуществлении наказания. Провинившегося мальчика обычно долго водили по туалету, вслух и очень подробно обсуждая, где, как и по каким частям тела будут его бить, куда у него дернется голова при первом ударе, куда он упадет сам и сколько крови, и откуда обозначится впоследствии на полу и на его лице. Мамочке особенно нравилось, когда голова избиваемого после его удара отлетала вплотную к кафельной стене и стукалась о её поверхность в результате чего на пол иногда осыпалось несколько облицовочных плиток. После такого удачного удара на его физиономии появлялось выражение радостного изумления, почти восторга. Он долго и с интересом разглядывал потом кожу на голове того, кого били, рану на ней, кровь на отбитых плитках и иногда даже, если был особенно доволен последствиями удара, прекращал наказание, проявляя впоследствии к избитому почти приятельское участие, но в любом случае процесс выстановления был для Мамочки обязательным и копируя, очевидно, свои действия с поведения взрослой шпаны, он зримо, да и, наверное, по сути своей, был в этот момент похож на художника, готовящегося приступить к работе над новой и глубоко заинтересовавшей его моделью. Во время избиения Мамочке всегда прислуживала группа ребят, входивших в его наиболее доверенное и близкое окружение, и хорошо зная слабость своего начальника к отбитым к плиткам, они специально в его любимых местах заранее отколупывали кафель от стены и приделывали его обратно пластилином так, чтобы плитки хорошо могли бы впоследствии обсыпаться в нужный момент, располагая тем самым шефа к хорошему расположению духа и данное действие этих мальчиков было в принципе
достаточно предусмотрительным, умным и гуманным актом, так как, в конечном счете, почти всегда облегчало участь избиваемого.
К приходу Петерса Ромку уже немного поводили по туалету и в начале пристроились было бить в крайней от окна кабинке, но потом все же вывели в коридорчик туалета к писсуарам, так как в кабинке он мог бы упасть в унитаз, что считалось особенно унизительным и в данном случае не соответствовало тяжести совершенного проступка. И на этом очевидно, процесс его выстановления должен был бы закончиться, предполагая тем самым, дальнейшее нормальное отправление проводимой процедуры с выполнением первых прикидочных ударов Мамочки или его доверенного лица, после чего мальчика обычно били по первому разу, а затем после небольшой паузы, предназначенной, скорее всего для понимания жертвой своего настоящего и будущего положения и профессиональных комментариев по поводу физических последствий первых нанесенных ударов, начинался второй и основной в принятой системе наказания этап, чаще всего проводимый Мамочкой собственноручно, когда он торжественно под одобрительные и завистливые взгляды своих товарищей надевал специальные перчатки, мелкой, жесткой вязки и бил рукой в перчатке вскользь по уже обозначившейся после предыдущих ударов красноте, сдирая подобным проведением удара кожу на будущем синяке, отчего тот становился особенно заметным и не проходил с лица долго, иногда несколько недель.
Далее мальчика били приглашенные на церемонию наказания представители из всех классов школы, исключая самых малышей и старшеклассников, приглашенным можно было при желании бить не сильно, но обязательно по лицу, допускалось в шею, но не в плечо.
Тем, кто пользовался у Мамочки особенным расположением и принимать участие в избиение не хотел, он мог позволить просто плюнуть в сторону наказуемого, но желательно так, чтобы плевок попал хотя бы на ботинки избиваемого мальчика. Вся процедура по времени обычно укладывалась в пятнадцать-тридцать минут в зависимости от количества наказываемых и степени тяжести их вины и проводилась чаще всего в школьную пересменку в районе обеда, так чтобы в туалете могли присутствовать учащиеся, как первой, так и второй смены.
Били не часто, но регулярно не всех, но многих, девочек не трогали никогда, то есть никогда в смысле избиения. Были и свои исключения, некоторых не били, даже если они и не входили в число приближенных к Мамочке лиц, и не имели никаких особенных связей среди царицынской и заводской шпаны.
Поселковых среди прочих учеников школы били ощутимо чаще, чем всех остальных и насколько можно было судить, из поселковых боялись трогать, разве что Сашку, из параллельного класса у которого один брат был старшеклассник, а другой уже отслужил армию и работал на поселковой режимной фабрике, да еще и в ночную смену.
Один раз Сашку тоже стали было задирать, но его старший брат привел к школе почти всю свою смену работяг. Они пришли здоровенные, небритые после ночи в черных, замасленных фуфайках, не постеснявшись прихватить с собой лопаты с отполированными до блеска, приваренными железными черенками и установившись плотной кучей, следили за всем происходящим от школьных ворот, не заходя внутрь двора, а Сашкин брат вызвал Мамочку, не долго с ним поговорил и когда тот принялся улыбаться ему своей зловещей, змеиной улыбкой коротко и сильно двинул ему кулаком в челюсть, после чего и ушел вместе со своими людьми.
Где-то недели через две его подстерегли на лесной дорожке, идущей от поселка к железнодорожной станции, и довольно сильно избили, но самого Сашку с тех пор больше не трогали.
Мамочку тоже били, очевидно, старшие из местной шпаны на сходках, где он, как можно было понимать, присутствовал регулярно, а может, и не они, только иногда он появлялся в школе с лицом, по которому вроде бы недавно били, но у него было такое лицо и столько оно успело наполучать за свое относительно недолгое существование, что следы этих ударов почти не замечались, а синяки на их месте даже и не росли. А принародно ему досталось всего один раз, когда в школе проводили военную игру.
Мамочка почему-то очень воодушевился идеей данного мероприятия. С одобрения учителей он нарисовал себе генеральские погоны, так как их себе представлял, активно во всей подготовке баталии участвовал и в решающий момент всеобщего побоища лично повел подчиненных в атаку. Его окружили старшеклассники, выступавшие в данном сражении за врагов - его бывшие соученики, от которых он отстал на три года.
Они сбили его с ног и стали молча и сосредоточенно бить, изваляли всего в снегу, оторвали рукав у его старенького пальтишки, а плоскую как блин, когда-то бывшей кроличьей шапчонку то ли забрали, то ли закинули куда-то. И он шел с оборванными погонами с лицом мокрым от крови и слез и в голос, рыдая, повторял, что ша-а-апочку забрали.
Олежке его тогда почему-то стало здорово жалко, и он предложил Ромке немного полазить по дубу, под которым били Мамочку и в верхних высоченных ветвях которого и могла находиться искомая ушанка. Дерево было знакомо и они вполне могли бы подняться наверх по отработанным маршрутам, благо, что в боевых действиях не участвовали, а , записавшись в разведчики во время всей кампании просто слонялись по зимнему Бергилевскому лесу, стараясь не попадаться на глаза ни тем, ни другим.
«Мало били», - ответил Ромка на это предложение и добавил, что хватит тут ерундой заниматься, а надо идти к оврагу доделывать пещеру. Чем они и занялись, закончив к вечеру главный зал в длиннющей снеговой норе, прорытой в одном из снеговых наносов . Они каждую зиму строили подобные сооружения и тщательно их обустраивали, старательно маскируя от чужаков входы и окна, и пещера иногда в целости и сохранности стояла до самой весны.
Внутри подобного помещения всегда было уютно и тепло и предполагалось сидеть, лежать, курить, есть хлеб с колбасой и даже спать. Часто они проводили в своем снеговом доме чуть ли не целый день и это несмотря на то, что зимы в те годы стояли довольно холодные.
К весне снег, подтаивая, оседал и в центральные помещения можно было пробраться под просевшим потолком только ползком на животе. По всюду со сводов спускались колоритные, толстые сосульки, иногда соединяясь с такими же, которые росли снизу им навстречу и вместе они образовывали как бы ледяные колонны, которые безмолвным и таинственным свечением своим придавали всему снежному дому значение парадное и торжественное.
В свете самодельных свечей пещера приобретала вид поистине фантастический, когда и придумывать нечего не требовалось о страшных тайнах и невиданных существах, присутствующих, казалось за ближайшим поворотом снегового коридора. Конечно, что-то подобное строили и поселковые ребята, но никогда не делали это так основательно, как Ромка с Олежкой. К тому же, памятуя о том, что снег может просесть и придушить, другие дети рыли свои пещеры поближе к домам и никогда не занимались этим на склонах Бергилевской балки.
Ромке с Олежкой взрослые тоже часто рассказывали к началу зимы о неких маленьких мальчиках, которых придушило под снегом и как они: маленькие, несчастные и беззащитные остались там, в снегу навсегда, но друзья рассказов этих не боялись, используя их разве что в качестве одного из сюжетов для игр в тех же пещерах. А о том, что снег проседает, они ,конечно, имели в виду и учитывали это его свойство рельефом склона и прочностью конструкции, но снега не боялись никогда. Чего бояться-то? Надо было просто оставить Хозяину снега в вырытой пещере маленькое блюдечко с сухариком и кусочком колбасы и когда это подношение исчезало, вовремя возобновить его — вот и все.
Войдя в туалет, Петерc оттолкнул мальчика с повязкой дежурного по школе, который согласно утвержденной рапортички должен был следить за порядком во вверенном ему помещении, зажмурил глаза и выступив вперед кулак, пошел на Мамочку.
По закону, простым мальчикам, посещать туалет, когда там кого-нибудь били, категорически воспрещалось. Но что было взять с Петерса? Он и в классе, да и наверное, во всей школе всегда был сам по себе и вроде бы хоть и считался официально нормальным, но в представлении многих и в том числе, наверное и учителей, пребывал как бы не в своем уме. Да и родители у него были из «ЭТИХ». Может быть ещё и поэтому?
За партой он всегда сидел один и до той поры, пока Ромка с Олежкой не признали его своим с ним почти никто кроме учителей и не разговаривал, если не по делам.
Учился он ровно, но без особого старания, математику вроде бы любил, а по литературе хватало ему одного раза прочитать текст или стихотворение для того, чтобы потом безошибочно и очень красиво рассказать его у доски. По истории он, похоже, знал предмет лучше самой исторички, и она почти никогда его не прерывала, с интересом слушая Петерса. Ответы иногда просила даже дополнить или прокомментировать ее рассказ, всегда его хвалила, но в журналы по большей части ставила или три или четыре — это чтобы в четверти случайно не вышло отлично, так как, понятное дело, не мог мальчик быть отлично успевающим по истории, если у него родители из «ЭТИХ».
А делать на труде ножки для табуреток, при собрании всего класса обозвав то ли Эммануиловича, то ли ножки нехорошим и неприличным ругательством про Сизифа, за подобные дела другой бы мог и на переэкзаменовку загреметь, но Петерсу все как-то сходило.
Странный он был мальчик, чего с него взять? И мать у него была странная, нездешняя, какая-то с очень красивым, бледным и худым лицом. А отец пока не умер так и вообще был то ли лишенец, то ли бывший служитель культа, говорили, еще чего и похуже числилось за ним, но сам Петерc рассказывал , что его отец был краеведом, да кажется, про краеведа что-то говорил или что-то в этом духе.
Странная специальность — краевед. Может поэтому он и жил с родителями так скромно, почти бедно. Книг у них, правда, было много, но все большей частью не про приключения и войну, а каких-то толстых с мелким текстом в несколько столбцов на странице и картинками странными и малопонятными.
Что касается Ромки и Олежки, то относились они к Петерсу вначале, как и все, но потом Судьба свела их поближе.
Дело в том, что они около полугода настойчиво выслеживали в овраге человека, который, судя по следам его пребывания в их владениях, приходил в балку достаточно часто, но осторожно и скрыто от них. Он, человек этот, что-то копал на глиняных склонах, ямы какие-то делал, камни укладывал, ступени земляные строил на террасах, прочищал родники. В общем, его деятельность носила скорее положительный для оврага, чем какой-либо другой характер, но сам факт того, что в любимом месте их игр появился чужак, вынуждал ребят принимать ответные меры.
Копателя выследили и накрыли, и им оказался Петерс. Хотели бить, но потом, следуя правилам, все же расспросили, что и почему. Тогда-то они и узнали про древнейшее в этих местах поселение людей, глубинные родники, подземное озеро и про величественное капище Духа Воды, которое дошло до наших времен почти узнаваемым, лишь незначительно пострадав от огородников и авианалетов, когда во время войны немцы старательно бомбили соседние элеваторы с зерном.
Слушать Петерса было удивительно и как-то даже интереснее, чем читать самые дефицитные, по выдаче на одну ночь книги, так как то, что описывалось в книгах, происходило где-то и еще не факт, что происходило вообще, а следы того, о чем рассказывал он, можно было увидеть и даже потрогать руками, соприкасаясь с неведомым чуть ли не во дворе собственного дома.
Но он и про приключения много знал и иногда летом они забирались на свой любимый мыс, вырывавшийся от склона оврага далеко в пойму, ложились на удивительно теплую, глинистую землю, покрытую приятно колючим, душистым ковром травы и лежа голова к голове, под плывущим с пушистыми облаками небом, подолгу слушали удивительные повествования из его странных книг, а может и не только из них, потому что многое из того, что он рассказывал, они в последующем так и не смогли никогда прочитать сами, а слышали эти истории, только от него. И все-таки странным он был, этот Петерc и имя у него было странное, а может и не имя, а фамилия. Петерc и Петерc, все его так звали, а как на самом деле нужно было звать — неизвестно. Да и не узнать уже.
Поэтому Мамочка и не возмутился, когда Петерс влез в туалет, так как давно на его воспитание махнул рукой — клички к этому пацану не приставали, на ухмылки и значительные по их возможным последствиям взгляды, он не реагировал, когда угрожали, похоже не боялся и на вызовы к месту наказания не приходил, а бегать искать его по всей школе и потом бить одному — так какой интерес, тем более что и ненормальный он, а ненормальных бить вроде бы как и запрещалось.
Мамочка даже посторонился чуть, пропуская Петерса, подумав наверное, что тому приспичило и он бежит к унитазу по нужде, но когда понял, что его нацелились ударить, без промедления врезал нападавшему в ухо.
У Петерса тут же кровь хлынула из головы, откуда только можно, что самое страшное потекла из глаз и он без чувств грохнулся на пол. В результате весь ритуал показательного избиения пошел насмарку.
Всех вытолкали из туалета, и Мамочка в самом скверном расположении духа стоял над распростертым телом Петерса пока Ромка с Олежкой не привели своего приятеля в чувство. Потом он приказал им вымыть полы и отвести Петерса домой, сквозь зубы плюнул на них на всех и ушел из туалета, зло хлопнув дверью на прощание, что означало, что бить их еще будут обязательно и, скорее всего с осложнениями и долго.
Ромка с Олежкой почти на руках потащили Петерса из школы и, забирая в классе свои портфели, удовлетворили назойливое и как бы непонимающее любопытство одноклассников рассказом о лестнице, с которой они втроем только что упали. На выходе из классной комнаты им пришлось столкнуться со своей учительницей и снова повторить про лестницу, снабдив свой рассказ различными дополнительными ответами на ее вопросы, которые она им старательно задавала, как бы не понимая, что с ними произошло.
Кратко выговорив за неосторожное движение по лестничному пролету, учительница отпустила их в медпункт, пообещав сделать соответствующие записи в дневниках и с обязательной угрозой строго упомянуть об их проступке на грядущем родительском собрании.
Закрыв за ними дверь, она поздоровалась с классом, после чего, как им было через дверь слышно, строго и внушительно стала рассказывать детям о правилах поведения на лестнице, часто поминая в своем повествовании некоторых недисциплинированных мальчиков, которые этих правил не соблюдают, в результате чего ей приходится вот сейчас, для разъяснения этих правил, отнимать от урока драгоценное учебное время.
—Зараза, — мрачно сказал Ромка на ее слова, которые стройной рекой лились из учительского рта и они, ухватив портфели и Петерса, пошли из школы в близкий, через дорогу, Царицынский парк, и отыскав там за плотными придорожными кустами подходящую кучу сухих листьев, положили Петерса отлеживаться, а сами, усевшись на портфели, стали обсуждать возможные, дальнейшие варианты развития их жизней.
По всем вариантам выходило, что Мамочка очень зол, что бить будут обязательно, да еще, наверное и мордой в унитаз тыкать.
—Я ребят бергилевских знаю, они запросто любого могут отпинать, — горячился Ромка, раз за разом рассказывая про якобы знакомых ему бергилевцев на что Олежка, прикладывая к растущему фингалу пряжку ремня, отмалчивался, думая про себя, что им нечем бергилевцам заплатить, даже если они решаться вдруг выступить на их стороне, что для такого серьезного дела нужны деньги, а то и водка и что достать и то и другое в нужном количестве можно было разве что с помощью все того же Мамочки или его ребят и что ко всему прочему и не было у Ромки в Бергилеве никаких знакомых, кроме старой, больной тетки, к которой он ходил редко и только с родителями, что в общем то было очень предусмотрительно с его стороны , так как по действующим в этой деревне законам, чужаков без взрослых там всегда сначала били, а потом уже спрашивали, зачем они тут появились.
Такие уж у них там, в Бергилеве, были свои деревенские правила и вот только ещё дрыном по башке им с Ромкой не хватало для полного счастья.
—Мамочку можно наказать , — подал голос Петерc.
—Как? — спросил Ромка.
—Серьезно.
—Говори, не тяни.
—Он умрет.
—У тебя есть знакомые? У мамки кто-нибудь на элеваторе?
—Нет- это дух.
После заявления о духе Ромка здорово разозлился и стал почти кричать, что нечего было соваться не в свое дело и чтобы сейчас, когда идет серьезный разговор, он утерся, заткнулся и не мешал, но потом под долгим, спокойным взглядом Петерса как-то быстро выдохся, поутих и согласился его выслушать.
—Ладно, попробуем, только сказки это все - это книжки, а в книжках все не так, как на самом деле. Кто твоего духа видел?
—Мой отец.
—И что он с ним делал?
—Просил. Просил, чтобы я остался жив.
После этих слов Ромка с Олежкой не нашлись, что ему дальше возражать и не потому, что они поверили в его рассказ, а потому, что ставить под сомнение авторитет отца товарища было бы грубым оскорблением, граничащим с разрывом каких-либо отношений вообще и чего, понятное дело, Петерc не заслужил, так как, хоть он и все осложнил своей дурацкой выходкой в туалете, но сделал это, как они хорошо понимали, желая, в сложной формулировке слововыражения его поступка, разделить их участь, а говоря проще, мог бы и отсидеться в классе, удивленно и заинтересованно в последующем, задавая им вопросы про лестницу. А самое главное им все равно надо было что-то делать, хоть что-то, что бы отвлекло их от мыслей о предстоящем издевательстве, ждать исполнения которого, скорее всего, придется еще целую неделю.
—Хорошо, — сказал Ромка, — До завтра успеешь?
—Тебе его не жалко?
—Нет.
—Мы будем участвовать в убийстве человека и этот грех протянется за нами до конца наших жизней.
—Ты до завтра успеешь?!
—Успею.
—Тогда завтра, сразу после уроков.
Но на следующий день их после занятий перехватила знакомая библиотекарша из школьной библиотеки и после дежурных вопросов про крутую лестницу попросила ей помочь. Работа было простая: она им выделила несколько полок с книжками, которые нужно было пролистать и где найдешь портрет Сталина вырвать, а где его фамилия попадется — зачеркивать. Задание показалось им нетрудным, а портить отношения с библиотекаршей не хотелось, так как она нет-нет, да и давала почитать что-нибудь интересное и друзья споро взялись за дело. Правда Петерс сказал, что это вандализм или что-то около этого сказал вместе с еще другими, труднопроизносимыми своими словами и отпросился у Ромки идти доделывать гусли. Они отпустили его, условившись встретиться в восемь часов вечера у заброшенных домов.
Но Сталина оказалось очень много, вначале они еще надеялись, что успеют, но потом Олежка снял с полки, красного переплета книгу со звездочкой и сокрушенно показал Ромке. Портрет в книге был всего один, зато фамилия повторялась почти на каждой странице, да еще и по несколько раз. Ромка сходил в школьный коридор и посмотрел на настенные часы.
—Завтра доделаем, — сообщил он, вернувшись.
Они поставили книги по местам и побросав вырванные физиономии в корзину для бумаг, потихоньку ушли из библиотеки, сговорившись, что все на библиотекаршу и свалят, оправдываясь перед родителями, если им в капище придется задержаться до темноты.
—Надо бы портретов захватить, красивые, — запоздало спохватился Олежка, когда они пролезали в дыру школьного забора.
—Он, вообще, кто такой был? — поинтересовался Ромка.
—Да, вроде самый главный шпион, очень хитрый, только после Смерти его разоблачили.
—Врут, — убежденно не согласился Ромка.
— Надо будет у Петерса узнать.
—Ты его лучше про духа расспроси, как следует.
После упоминания о духе они замолчали, да так и шли большую часть дороги молча. Олежка Петерсу почему-то поверил и чем больше он думал про то, что они собирались сделать, тем меньше ему хотелось идти в овраг, а уж история с замещением и совсем ему не нравилась. Что из того, что оно будет частичное, как успокаивал их Петерс? А если не частичное? Что тогда сделается с его родителями, если вместо него домой припрется дух? А по Ромке нельзя было определить, боится ли он замещения, но только и у него вид был невеселый.
—Ром, может, пойдем просто погуляем? — без всякой надежды предложил Олежка, когда они вышли за поселковую дорогу и впереди в непролазном бурьяне показались остовы заброшенных домов.
—Надо попробовать, может и сработает, — хмуро ответил ему Ромка и они пошли по тропинке к домам.
Чтобы быстрее добраться до места, они немного срезали по пустырю с которого им уже было видно, как бы пропадание земли в том месте, где она вроде бы должна была идти к горизонту, но земля там пропадала и в следующий раз снова появлялась уже в синеватой дымке далекого, левого берега Бергилевской балки, зримо обозначая ее размер игрушечными очертаниями деревьев, едва видимыми черточками телеграфных столбов пустынного шоссе и темнеющими громадами прямоугольников элеваторов, которые наподобие скал вырастали из размытости очертаний заводского поселка.
Собственно, сам Бергилевский овраг рождался из схождения пяти довольно глубоких и длинных оврагов. Самый большой и протяженный из них шел из-за окружной дороги. Два коротких, но широких выходили с пустыря перед элеваторами. Причем один из них оказался почти засыпанным дамбой и почти полностью проходил в высокой, бетонной трубе из темной, зарешеченной пасти которой в пойму вытекал на удивление чистый ручей, где всегда водилось полно пиявок и пескарей, а еще два выходило из Бергилевского лесопарка и какой конфигурации и протяженности эти овраги на самом деле являлись, сказать было трудно, так как они, сложнейшим образом переплетаясь между собой, имели многочисленные боковые ответвления, ручьи, болотца и целую систему родников.
Ромка с Олежкой не раз путешествовали по ним и знали, казалось, очень неплохо, но иногда и им случалось попадать в такие места, где они, кажется, никогда в жизни не бывали.
Все пять оврагов объединялись в обширной, заболоченной пойме, из которой выходила широкая, глинистая балка, также имеющая множество боковых ответвлений и глубоких, почти ущелий, искусственного происхождения, прорытых к глиняным и песчаным карьерам, расположенным рядом с оврагом. И если бы представилась возможность увидеть всю эту сложную систему сверху, как бы в плане, то при известной доли воображения можно было бы представить себе огромную, разлапистую человеческую ладонь, где глиняная Бергилевская балка являлась запястьем, овраги пальцами и сама пойма — ладонью.
Совсем рядом с оврагами находилось несколько городских микрорайонов с обычной шумной и бестолковой городской жизнью, но она как-то затихала по мере приближения к глиняным провалам в земле, не добиралась до них и даже звуками своими не долетала до этих мест, где все было как-то по-своему: в кустарнике и на деревьях как-то по особенному пели птицы, в болотцах водилось великое множество иногда очень странноватого вида тварей.
Многочисленные родники вместе с водой выбивали на поверхность струи нежнейшего, кварцевого песка, переплетая и расцвечивая их, как цветы, а вода в ручьях, фантастически прозрачная и чистая, переливалась мириадами страшных своей необычностью пиявок, которые струились в прозрачной воде в окружении полчищ лягушек и жаб, удивительно здорового и упитанного вида.
И было еще в овраге много всяких очень интересных, на взгляд Ромки и Олежки и странных разностей, но пожалуй, самой значительной и интересной особенностью здешних мест являлась, все таки, их не посещаемость людьми.
Балка располагалась совсем рядом с человеческим жильем, но как-то так, что никакой надобности ходить в нее или через нее у местных жителей не появлялось. И была она от людей этих, как бы сама по себе.
Бергилевцам до серединной части оврага было идти километра два, два с половиной и чтобы попасть туда они были бы вынуждены переплавляться через ручьи и болотца, и хлюпать по ним, и скакать по жердочкам и доскам, а потом, выйдя к водоочистной башне еще перейти и через ручей, вытекающий из-под водоочистки, а это можно было сделать только по забору из колючей проволоки, который над ним стоял. То есть бергилевцам вместе со всеми их колами и цепями от мотопил пришлось бы демонстративно лезть по проволоке и ругаться со сторожами, которых обычно набирали из еще крепких поселковых мужиков, отработавших свое на режиме, а они и сами были не прочь кого-нибудь треснуть дубиной по голове, а то и собак с лееров спустить. Конечно, бергилевцы могли бы попробовать найти кольцевые островки вокруг воронок, по которым проходило несколько тропинок и по ним можно было передвигаться по всей пойме. Но знали их полностью разве, что только Ромка с Олежкой, потому что сами их и прокладывали. И были у них проходы для всех, и по ним иногда возвращались рабочие с элеватора, и были только для себя, при этом ребята строго следили за тем, чтобы чужаки не лезли, куда не надо.
Именно на этот случай предусматривалось несколько ловушек и тупиков. Попав в ловушку, чужак мог провалиться по колено в прекрасную, какую то особенно ярко-оранжево-черногрязную глинистую жижу ни в коем случае потом без кипячения, не отстирываемую, а оказавшись в тупике, даже почти рядом с берегом, чужой обязан был вернуться обратно к тому месту, с которого он и пошел по тропинке, а если бы он дерзнул идти дальше напрямки через осоку и кусты, то его могла ждать там непроходимая глубокая лужа, а то и яма метра на четыре глубиной. И бергелевцы, конечно, знали о тропинках, но не обо всех и может быть, им бы и удалось обойти ручей по пройме, но уж по паре раз каждый бы из них непременно бы провалился в грязь, и вот когда они в таком мокром и потрепанном виде вылезли бы на поселковый или заводской берег, им было бы уже не до драки, так как ни один нормальный человек в подобном дурацком виде, драку начинать не станет. А если драться нельзя, так и зачем им, спрашивается, было бы переться в такую даль? А для Ромки с Олежкой островки в пойме были любимым местом для игр, да и ручей около водоочистки преградой не являлся.
Через него, на самом деле, можно было переправиться и около забора. Для этого надо было просто взять толстую, крепкую жердь, которая хранилась в специальном месте в намоченном для тяжести состоянии и, прицелившись ей в точное место на дне ручья, попасть там под слоем ила и водорослей в кусок бетонной плиты и опираясь на него жердиной, с разгону перелететь на другую сторону ручья. Они всегда переходили через ручей подобным образом, а часто и просто прыгали через него для собственного удовольствия, так как дело это было интересное и захватывающее. А уж когда не попадешь на плиту, и дрын зароется в дно, и зависнешь на нем посреди ручья, так и вообще получалось здорово, ну это, конечно, летом, когда вода теплая. Но про жердь бергилевцы не знали, это уж точно, да многого они не знали в пойме оврага, хотя и жили вроде бы недалеко.
Царицынцы в овраг не ходили, потому что если бы пошли к нему со стороны Прутков в обход Царицынского пруда, то им бы пришлось выйти к поселковому забору, перелезть через него, пройти весь поселок, еще раз перелезть через забор, выйти к оврагу, а уходить из него потом или вниз к мосту у прудов и дальше по берегу, рискуя встретиться с заводскими, или идти через лес мимо бергилевцев, что было бы еще более рискованным делом. А старой дорогой они бы возвращаться не смогли, так как сам их проход через два забора взбудоражил бы весь поселок и их вышли бы бить не только поселковые ребята, но и взрослые, свободные от смены дядьки, которые никаких правил вообще не соблюдали и дрались обычно обрезками железных труб и лопатами или еще чем под руку попадется. Что касается прутковских, так они, похоже вообще не знали о средней части оврага, так как, чтобы в нее попасть им надо было идти прямо на бергилевцев и те бы их непременно высчитали, и гонялись бы потом за ними по всему лесу со своим колами, и драться бы приходили к Пруткам недели две-три, пока бы не поймали кого-нибудь из прутковских пацанов, и не избили бы до полусмерти.
К оврагу почему-то не ходили и сами поселковые, хотя начинался он буквально за их картофельными делянками. Что интересно и картошку в нем не сажали, вот до забора сажали, а за забором нет, а если кто и пробовал вскопать в низине кусок земли, то родила она потом как-то странно, то есть все всходило и выростало как и на делянках, но к середине лета посевы как-то сморщивались, загибались и высыхали, а что и оставалось, так потом безжалостно, за одну ночь, выкапывалось и уворовывалось, и все, кто пробовал сажать за поселковым забором, со временем отказывались от этого совершенно бесперспективного занятия и бросали свои маленькие латифундии, которые поразительно быстро зарастали травой и кустами, вровень с дерном.
Поселковые дети играть в овраг ходили очень редко, хотя место было интересное, солнечное: песок, глина, вода, ящерицы, бабочки, стрекозы огромные как самолеты, пузатые, разноцветные лягушки и еще полно было там всяких каких-то странных и очень забавных мелких зверей. То есть место для игр было прекраснейшее, вроде и не опасное, и били там редко, и каких-то страшных, или неприятных случаев не происходило. Мальчика одного, правда, грейдером задавили, но это было давно, когда карьеры еще работали, но вот поселковые дети ходить туда почему-то не любили. Тихо там было как-то для них.
И заводские к оврагу тоже не ходили, хотя он вплотную, левым берегом примыкал к их пустырю. А зачем им было туда ходить?! Если только драться с поселковыми, которые сами туда не ходили. Конечно, можно было бы, перелезть через овраг и идти драться к школе, но в школе учились и поселковые, и царицынцы с прутковскими. И так сразу, не поговорив, было бы трудно избить выборочно какую-нибудь одну группу ребят, и в итоге пришлось бы бить всех подряд, что, конечно, было бы неумно, так как немедленно послужило бы поводом к объединению всех против общего врага. А заводские и так все время дрались со всеми и сами между собой, а с царицынскими у них стычки происходили почти каждую субботу, когда они в парке после танцев били друг-друга по головам дубинками и арматуринами.
Иногда вниз оврага заходили ребята из трех домов около моста, но детей в этих домах было мало, в происходящих драках они обычно принимали сторону того, кто побеждал и их при случае тоже старались избить все, кому они на глаза попадались , поэтому они редко уходили от своих домов далеко.
Вот так и выходило, что серединная часть оврага от поймы до моста, оказывалась совершенно никем не занятой. Ромка с Олежкой это знали точно, так как иногда, особенно летом, они проводили в балке буквально целые дни, и никто из чужаков не появлялся в их владениях. Нельзя сказать, чтобы они играли совершенно беззаботно, забыв об осторожности, так как на пустырях и в рощицах вокруг оврага было действительно опасно и нет-нет да и случалось что-нибудь. То изобьют кого-то, порежут ножами, а то и вовсе ограбят. В одно лето здоровенная собака сорвалась на фабрике с леера и потом по ночам нападала на одиноких прохожих, которые шли по тропинке от железнодорожной станции, и некоторых хорошо порвала, говорят, кого-то даже насмерть загрызла. А за одной женщиной просто шла один раз почти вплотную носом к ее ногам до самого дома, и эта женщина, позже поседела, и вроде бы, даже ее увезли в психушку. Девочку из класса, где Ромка с Олежкой учились, хотели изнасиловать в лесочке около моста, но успели только сильно избить, так как на ее крики прибежал здоровенный мужик из поселковых и сам в полусмерть избил одного из нападавших на нее, и притащил потом насильника в поселковую проходную, где до приезда милиционера, лупил его вместе со сторожами, пока не выбил ему зубы и не переломал ребра. Да только все это происходило как-то по соседству, а в самом овраге, насколько ребята могли знать, утонул только один пьяница.
Он ночью вылез на шоссе, прошел пустырь и напрямую, потащился к поселку через овраг, вышел на самую глубину и, как сторожа с водоочистки потом рассказывали милиционеру, несколько часов жалобно там орал, потом стал плакать, кричал, как будто с кем ругался, да и сгинул к утру без следа. И в общем, нельзя было сказать, чтобы Бергилевская балка являлась каким-то опасным местом, скорее не опасное оно было, а как бы никакое. Для людей и для их надобностей отсутствующее.
Ребята прошли через заросшие дикой малиной, осыпавшиеся фундаменты, пропетляли среди полусгнивших погребов, обходя ловушки, специально устроенные ими для дядек, которые лазили разбирать и грабить заброшенные дома и вышли на заросшую травой и кустами улицу. Петерс был во дворе. Он спокойно сидел на скамеечке и смотрел на гаснущее к закату небо.
—Красивое какое небо, — мечтательно сказал он друзьям вместо приветствия.
—Принес? — поинтересовался Ромка.
Петерс жестом объяснил, что «да» аккуратно смотал веревочку и раскрыл газеты, показывая гусли.
—Такие здоровые! — удивился Ромка.
—Я старался делать точно по описанию, но выдолбить доску не успел. Просто сделал вырез и забил фанеркой. Струны тоже не смог найти и прикрепил леску, толстые струны делал двойные и тройные.
Ромка, который умел немного бренчать на гитаре, потянулся к гуслям.
—Нет, не надо еще не наше время, — быстро остановил его Петерс и Ромка неожиданно ему подчинился.
—Пошли? — спросил Петерс и вопросительно посмотрел на друзей.
Ромка с Олежкой переглянулись, сейчас им надо было решить, достоин ли он узнать одну из главных их тайн или нет.
—Положи пока гусли под лавочку, — решил Ромка.
Они вошли в подъезд разрушенного дома и, перепрыгивая над водой по кирпичным фундаментным блокам, добрались до лестницы, ведущей на второй этаж. Поднимаясь по опасно прогибающимся доскам, вышли наверх и, держась за специально натянутый обрывок троса по бревнам каркаса перекрытий, выбрались в коридор, куда выходили проемы дверей бывших квартир.
—Иди сбоку около стены, на светлые доски не наступай-провалишься, — сразу же предупредил Ромка.
Это было необходимое предостережение, так как светлые доски были надломлены и положены для чужака, осмелившегося залезть в «их» дом. Развязав замаскированную «тарзанку» Ромка дал ее Олежке, тот прицелился и почти без толчка качнулся через провал на другую сторону коридора, ловко открыв ударом ноги дверь в квартиру напротив.
—Теперь ты, — сказал Ромка, передавая брошенную обратно веревку Петерсу, — не бойся, она прочная, только вниз не смотри.
Петерс качнулся вперед, но толкнулся слишком сильно, его вынесло на середину прихожей, приподняло вверх и спиной непременно утянуло бы обратно к провалу, если бы Олежка вовремя не поймал его за пояс брюк. Ромка переправился быстро и без помех, успев налету ногой закрыть за собой входную дверь. В прихожей они вытерли ботинки о коврик и прошли в угловую комнату, где были у них: стол, два стула, плетеное кресло и старый, но почти целый диван, а еще посуда, чайник, печка и запас еды.
—Может, картошки наварим? — предложил Олежка, втайне еще надеясь, что неприятное путешествие как-нибудь расстроится, а потом, может быть и вообще, будет отложено на неопределенное время.
—Потом, — остановил его Ромка.
Он прошел в угол комнаты и так, чтобы Петерс видел, открыл две половицы, под которыми было оружие: две аккуратно вырезанные дубинки, две арматурины с рукоятками из бесценной синей изоленты и две длинные, тонкие заточки, а также гарпун и кое-какие снасти для рыбалки. Постояв немного около оружия, Ромка выбрал из тайника две арматурины и дубинку, которую отдал Петерсу.
—Зачем? — удивился тот.
—Время позднее, всякое может быть.
Так как Петерсу было доверено увидеть один из их главных и богатых тайников, Олежка, не спросясь Ромкиного согласия, достал из замаскированного отделения комода их с Ромкой общую и очень, по всей видимости, дорогую вещь. Это была вазочка из неизвестного им блестящего и тяжелого металла, который они считали серебром, при этом предполагалось, что вазочка очень дорогая и что, удачно продав ее, они бы на вырученные деньги смогли купить у мазуриков на рынке настоящий немецкий автомат.
Олежка аккуратно отер блестящий металл рукавом, поставил вазочку на стол напротив Петерса и ссыпал в нее горсть семечек из кармана. Они все трое посидели немного за столом, а потом, разобрав оружие, собрались уходить, но перед тем, как покинуть уютную, с приятным запахом старого, оштукатуренного дерева комнату, не сговариваясь, подошли к окну и какое-то время смотрели на пустырь, за которыми начинался овраг.
Там редкими, длинными мысами земля зримо обрывалась в пустоту, уходя вниз в глубины Бергилевского оврага и как будто, и не было дальше за обрывом ничего, а лишь одно истекающее, слабым, вечерним светом небо ждало их впереди у этого немого и близкого обреза горизонта.
От развалин дома они прошли к закрытым воротам в поселковом заборе, рядом с которым покоилось наполовину вросшее в землю циклопическое, железное и когда-то, судя по остаткам колес, имеющее способность к передвижению механическое чудовище, как бы специально оставленное кем-то для охраны на вечные времена закрытых створок ворот. Страшноватое на вид скопище, железных ребер, валов и каких-то совершенно немыслимых механических передач, являло собой одно из любимейших мест для их игр, представляя собой попеременно то корабль капитана Немо, то самолет Гастелло, а то и космолет пришельцев, а чем эта железяка была на самом деле не знал похоже даже Петерс. Перед воротами они постояли, прислушиваясь, и через лаз под досками осторожно перебрались на другую сторону забора.
—А о чем твой отец говорил с Духом — неожиданно спросил Ромка.
—Я болел, и он просил о моей жизни.
—Это когда ты две четверти пропустил?
—Да.
—Горло болело? — уточнил Олежка.
—Нет, это была саркома.
Название болезни было Ромке с Олежкой не знакомо, но само слово, кажется, даже в звуке своем, несло угрозу и вслушиваясь в него, действительно верилось, что от саркомы можно было и помереть.
—А врача вызывали?
—Меня возили в больницу, но не взяли, сказали, что не лечится.
—А теперь чего говорят?
—Говорят, что ошиблись с диагнозом.
—Ты думаешь, это дух?
—Я знаю.
—Откуда?
—Я читал дневники отца и из них я знаю, что нам делать сейчас.
—Мамка дала почитать?
—Нет, она не смогла прочитать, отец писал на старом языке и через зеркало.
—Как через зеркало?! — изумился Ромка
—Так можно, — подтвердил Олежка, — это когда смотришь в зеркало и пишешь, и читать надо потом написанное, тоже через зеркало, иначе ничего не понять. Я про шпионов читал, они так шифровки составляли.
—Здорово придумано, — похвалил Ромка.
—И Леонардо так писал, — подтвердил Петерс, как всегда сославшись на какую-то свою, как он их называл, историческую личность.
—А мы изменимся, если Дух нас заместит? — осторожно уточнил Ромка.
—Совсем немного, потому что нас будет трое, но изменения произойдут.
—И даже лицо ?
—Да.
—Этого не может быть.
—Может, — не согласился Олежка, — если сильно переживать то изменится. Помнишь, какая стала баба Маня, после того, как в сараях милиционеры у нее гусей нашли и застрелили?
—У нее просто был удар.
—Инсульт, — подсказал Петерс.
—Но лицо-то у нее изменилось.
—Да, у кого хочешь, изменится, если гусей застрелить, у нее и не было никого на свете кроме этих гусей.
—Это точно…
—А зачем их вообще застрелили-то? — спросил Петерс.
—Говорят, что постановление вышло.
—Только гусей нельзя?
—У тебя, что есть гуси?
—Нет, просто интересно.
—Личную собственность можно, а частую нельзя, вот рубашка—это личная собственность, а гуси частная. Поэтому и застрелили. Линия такая, понял? И хватит болтать, пошли в овраг.
Они отошли от ворот и наискось, через ряды полусгнивших заборов с колючей проволокой и ямы старых блиндажей зенитной батареи, стали пробираться к мелким, боковым отросткам оврага. Идти через заборы надо было осторожно, то есть сами по себе эти заграждения, для рябят никакой преграды не представляли. Но были еще и упавшие столбы, через проволоку которых прорастал какой-то крепкий, колючий кустарник и вот через них перебраться было очень сложно, а в некоторых местах совершенно невозможно. Взрослые вообще избегали заходить в лабиринт между заборами, так как в густой траве и кустарнике, оставалось довольно много пустых ям из-под не врытых столбов. Сверху под густой, прошлогодней травой они были почти не заметны и, неожиданно угодив в какую-нибудь из них, можно было сильно повредить или даже сломать ногу.
Чтобы и дети сюда не забирались, взрослые настойчиво вкручивали им про ядовитых змей, которые якобы жили в кустах и которых там, как доподлинно знали Ромка с Олежкой, отродясь не бывало ни одной, как впрочем, и во всей нелесной части Бергилевского оврага. Зато в непроходимых зарослях, перекрытых нагромождениями проволоки обитало множество ящериц, мышей и еще каких-то полосатых, веселых зверушек, похожих то ли на крыс, то ли на хомячков за которыми прямо до смеху ,как интересно, было подглядывать.
Пройдя заборы и предупреждая Петерса о всех ловушках для чужаков они вышли к заброшенному карьеру и по его, закрытой бетонными плитами дороге спустились в сам овраг. Они первый раз в жизни оказались в овраге в такое позднее время суток и их удивило насколько внизу оказалось темнее и холоднее чем на верхушке склона, с которого они спустились всего несколько минут назад
К ночи в овраге все как-то ощутимо и опасно изменилось, вытянувшись в расстояниях и размерах, и неузнаваемо исчезнув привычными очертаниями в тенях глубоких, напоминающих пещеры боковых ответвлениях главного русла. Сама дорога, идущая от карьеров, белела в наступающей темноте, казалось, не бетонными плитами, а гигантскими костями доисторических зверей и ребята чувствовали, что если осмелятся сейчас ступить на ее и сделать хотя бы один шаг, то и придется тогда им пройти до конца, выполнив все, что они задумали сделать. br>
—Дух пока не знает о нас, мы еще можем вернуться, — тихо предупредил Петерс.
—Раз пришли, значит, сделаем, не дрефте, тут нет никого кроме нас, — сказал Ромка и поудобнее перехватив арматурину первый пошел вперед.
Место, которое Петерс называл капищем, встретило их мрачным величием темного полукольцевого склона и тихим журчанием воды в многочисленных родниках. Петерс много раз пытался объяснить им, что это было за место и только сейчас Ромка с Олежкой смогли увидеть то, о чем он говорил. Темнота нивелировала изменения и разноцветье почвы, и приглушая в себя не к месту выросшие рощицы, вдруг отрыла им следы земляных лестниц и четко обозначенный тенями, подковообразный амфитеатр для простого люда с ярусами, где на привилегированных местах должна была располагаться знать, а в центре этого открытого зала симметрично и строго вырывался к родникам высокий узкий мыс, на котором когда-то возвышался ныне свергнутый и поруганный, древний Бог.
—А историчка говорила, что вовсе не идол тут стоял, а памятник Борису Годунову.
—Это распространенное заблуждение, — ответил Олежке Петерс — Годунов был могущественным государственным вельможей, а потом и царем, и если бы ему поставили памятник в таком глухом месте, он бы воспринял это, как оскорбление со всеми вытекающими из этого факта последствиями.
—А она говорила, что на камне и надпись была, и даты.
—Да, — подтвердил Петерс, — только их вырезали много позже, чтобы все и думали, что это ему памятник, это чтобы идола спасти от поругания.
—А чего они для капища твоего такое мокрое место нашли? — спросил Ромка, прицениваясь, как им по темноте лучше добраться до мыса с идолом.
—У древних был культ воды, вода для них являлась символом жизни, а тут выход целых двенадцати родников, по шесть с каждой стороны мыса.
—Дух то, старый. Может он и колдовать уже ничего не может?
—Про него лучше в этом месте плохо не говорить, он сейчас слышит каждое наше слово и он до сих пор очень сильный, только сердится на людей, потому что во время войны бомбами пробили верх подземного озера, а у него там дом.
—Это он пускай на немцев злится, а мы тут не при чем, — усмехнулся Ромка, поглядывая на болотце, где темнели заросшие кустами и осокой воронки.
Эти ямы они хорошо знали в воронках образовались как бы небольшие озерца с чистой, прозрачной водой, где водилась рыба и огромные, как курицы, лягушки. Но, несмотря на всю привлекательность воды, купаться в воронках было нельзя, так как дно их в несколько слоев заросло длинными, мохнатыми водорослями, которые там мрачновато в глубине шевелились, цеплялись за живот и могли при случае утянуть под второе из плотной, водяной травы дно. Между воронками, петляя, шло несколько ручьев, соединявшихся в серединной части оврага в один. Ручьи часто меняли свои русла, образуя крохотные, но труднопроходимые старицы, а само дно оврага между ямами, тоже часто как бы менялось и в одних местах образовывались как бы озерца ярко-оранжевой, жидкой и глубокой грязи. А в других наоборот, как вроде бы острова приподнимались из мокрой низины и на них вырастали кусты, и даже небольшие деревья, но после весеннего паводка опять все менялось и приобретало новый вид, и совершенно новую карту безопасной проникаемости по болоту.
Ходить между ручьями требовалось осторожно и лучше всего с длинной, и крепкой палкой в руках. Как ни странно самым безопасным по дну оврага являлся путь именно вдоль ручья, так как берега у него почему-то оказывались даже приподнятыми над окружающими болотцами. К тому же около русла всегда находились какие-то раскидистые кусты с крепкими, длинными ветвями, по которым легко можно было перебраться и через разливы воды, и через сам ручей.
После короткого совещания ребята выбрали путь именно вдоль русла ручья и вскоре почти с сухими ногами добрались до подножия мыса. Петерс подвел их к одной из вырытых в глине ям, и они, достав из тайника в кустах бадейку, принялись вычерпывать из углубления воду. Через несколько минут работы железо стукнуло о камень, который после осушения ямы открыл им свои массивные, продолговатые очертания, уходя одним краем под длинный мыс, а другим в пойменную, мокрую низину.
—Это, что у него? — спросил Ромка.
—Правое плечо, — пояснил Петерс, — голова внизу, под осокой, ноги - к берегу оврага, он как бы лежит сейчас на боку.
—Здоровый, — уважительно сказал Ромка, — это он с самого верха оврага вниз головой летел?
—По рассказам его долго не могли свалить с пьедестала, а когда это удалось, он вниз не упал, а остался лежать на самом верху склона. Тогда его обвязали веревками и стали тащить вниз, и он вдруг сорвался со склона, и задавил своим весом несколько рабочих. Говорят, что их тела были сильно повреждены, а остатки одного так и не смогли сразу выкопать из глины, его искали несколько дней, но прошли дожди, а когда работы возобновились, часть склона осела и накрыла собой и каменного идола, и место работ, и останки человека.
—Разозлился, наверное, — предположил Ромка, кивнув на камень, — это, кто хочешь разозлиться, если тебя вниз головой начнут по глине пихать.
—По легенде все, кто участвовал в разгроме капища, потом долго болели, говорят, что некоторые и умерли раньше срока.
Они молча постояли над величественным, низвергнутым камнем, а затем, набросав на топкое дно ямы веток и травы, подобрались к нему вплотную.
—Сейчас еще можно остановиться, — предупредил Петерс, осторожно отирая верх камня рукавом.
—Говори, что делать, — приказал Ромка.
—Положите руки на камень и четко скажите ему, чего мы хотим, и думайте об этом. Сказать надо коротко и ясно, а думать ярко и отчетливо.
—Как ярко? — не понял Олежка.
—В голове все представляй, как будто кино, — объяснил Ромка.
—Начинай, — сказал Петерс и кивнул Ромке.
Ромка попробовал говорить, но неожиданно закашлялся и, только прочистив горло, и сплюнув в сторону от ямы, смог сказать.
—Хочу, чтобы Мамочке в лоб, промеж зенок его поганых, вогнали этот прут по самую рукоятку, — сказал он и показал камню свою арматурину.
—Ты, — сказал Петерс Олежке.
—Я…я,…хочу, чтобы он отстал от нас и к классу нашему тоже не приставал.
—Нет, так нельзя, Дух выполняет просьбы только или о жизни, или о смерти. Если хочешь, проси его или уходи прямо сейчас.
—Я хочу…, хочу, чтобы Мамочка умер, — тихо попросил Олежка , — Теперь правильно?
—Да, теперь правильно. Великий Дух, я тоже прошу тебя, чтобы тот, о ком мы говорим, ушел из жизни. Я знаю, что это грех, но мы имеем право защиты. Я прошу, убей его. Я прошу, сделай так!
Все это он сказал громко и отчетливо и его слова, казалось, достигли самых отдаленных уголков подковообразного, глиняного склона. Ромке с Олежкой стало как-то не по себе после его обращения к камню, так как они просили и не были уверены в положительном решении своей просьбы, а он просил и был убежден, что да, сбудется.
—Теперь дары.
Олежка положил на камень большой кусок хорошей, копченой колбасы, Ромка котлету, один конец которой был подозрительно придавлен, как если бы от него сначала слегка откусили, а потом замяли пальцем, а Петерс пожертвовал идолу кусок сырого мяса.
—Ни у кого больше ничего нет? Тогда выходим из ямы.
—Кровь? — спросил Ромка.
—Нет, надо ждать.
Они долго стояли около ямы, осторожно оглядываясь вокруг и переговариваясь в тишине опускающего в овраг строгого, ночного неба.
—Смотрите, там в яме, — сказал Олежка, испуганно показывая на камень, который у них на глазах стал погружаться в землю.
Все трое попятились от идола и только спустя какое-то время смогли понять, что погружался не камень, а наоборот вода прибывала в яму, без следа пряча под собой массивное плечо каменного гиганта.
—Наши дары приняты. Он принял дары, — удивленно подтвердил Петерс.
Спустившись от откоса к самому выходу из подковы амфитеатра, ребята нашли место, где вода из двенадцати родников примерно сливалась в одно русло и, поранив руки специально отточенным гвоздем, слили по несколько капель крови в темную, быструю воду. Никто им не помешал и вроде бы не делали они никакой особенной работы, но после того, как капельки крови упали в ручей все трое почувствовали ,насколько сильно они устали и как тяжко стало у них на душе.
—Можно уходить?
—Нет, еще сладкозвучное пение, — напомнил Петерс.
Он сел на обломок бетонной плиты, положил на колени свои самодельные гусли и, зацепив струны пальцами, вырвал из них первый какой-то высокий и дребезжащий звук, от которого все они вздрогнули.
—А-а-а, — громко и нараспев закричал Петерс.
И пугаясь его голоса в дребезжащем, высоком звуке натянутой лески, Ромка с Олежкой тоже подхватили это: «А-а!», усиливая и раскидывая его в настороженной, ночной тишине оврага. И у них даже стала получаться какая-то своя, диковатая и очень странная мелодия. Но вдруг Ромка перестал орать и показал им рукой вперед на склон оврага, где около мостиков через ручей виднелась фигура женщины, которая, по всей видимости, возвращалась в поселок с ночной смены на элеваторе и решилась пройти короткой дорогой через балку. Стоя около ручья и слушая их крики, она как бы раздумывала: вернуться ли ей назад или идти дальше.
—Пусть пройдет, — предложил Ромка.
—Пойте, пойте, — крикнул Петерс, — это он, нам удалось вызвать его. Пойте! — и он опять, что есть силы, затянул свое: «А-а!».
Ромка с Олежкой пытались ему помогать, но получалось уже не очень хорошо, так как их внимание все больше занимала женщина у ручья, которая, кажется, их нисколько не боялась. Вдруг поднимающаяся от воды дымка, как увеличительным стеклом приблизила ее лицо вплотную к ним, и оно стало поразительно отчетливо видимым, расположившись как бы отдельно от ее тела, почти вплотную к ребятам и увеличившись при этом до огромных, почти в рост человека размеров. У нее было очень запоминающееся, красивое лицо, может быть, чуть более узкое и белое, чем у местных, крепких и мощных женщин. Глаза ее казались огромными и цветом своим напоминали водоросли, живущие в глубине темной воды, и были они такого же спокойно угрожающего вида, как глубины заросших водяных ям.
—Пойте же, пойте, надо петь, — просил их Петерс, и ребята снова затянули свое надрывное и длинное «А-а-а…».
А огромное лицо перед ними неторопливо переводило глаза с одного мальчика на другого и как холодом обдавало тело. Когда ее взгляд касался кого- либо хотелось тогда сразу сделаться маленьким-маленьким и зарывшись под какой-нибудь камешек, немедленно спрятаться от нее - такой у нее был взгляд ,хотя и не читалось в нем ни гнева, ни осуждения, а скорее только досада и давняя, извечная печаль. Рассмотрев мальчиков, как следует, она остановила свой взгляд на Ромке и уже не спускала с него своих глаз. И от этого его пение становилось тоньше и сильнее, и вскоре перешло в пронзительный, почти визг, быстро превращающийся в какой-то новый, совершенно не знакомый человеческому уху, длинный, вибрирующий и не переносимый звук. Но в какой то момент, уловив краткую паузу между своими тонкими вскриками, Ромка смог коротко выговорить Олежке своим страшно изменившимся тонюсеньким голоском:
—Бежи-и-и-и-им, тика-а-а-а-а-ем!
А Олежка, казалось, что только и ждал этой команды, и они вдвоем, не разбирая дороги и не оглядываясь, напрямую, через осоку и кусты, разбрызгивая в стороны фонтаны тяжкой, оранжевой грязюки, проскочили болотце и взлетели вверх по глинистому откосу. Там не задерживаясь ни на секунду, проломившись через ограждения из проволоки, казалось, по воздуху перелетели доски поселкового забора и смогли остановиться только за закрытыми воротами, там, где они совсем недавно и начали свой спуск в овраг.
Они стояли, прячась за огромным ржавым остовом вросшей в землю машины, так чтобы падающие, ночные тени надежно закрывали их от посторонних глаз и, зализывая свои царапины, с надеждой смотрели на гребень забора, но Петерса не было.
По прошествии нескольких минут, когда стало ясно, что он убежать не смог, Ромка, зло и по-взрослому выругавшись, вытянул из железных ребер машины какую-то увесистую трубу и ничего не сказав, пошел обратно к оврагу. Шмыгая носом, Олежка постоял немного один, посмотрел на близкие, теплые огни родного поселка и побежал догонять друга.
Когда они вторично вошли в овраг, фееричная игра теней и света открылась перед ними. Огни прожекторов, на элеваторах, поделили все видимое пространство склонов и небо над ними в серебристые и темные полосы, превратив ночь в фантастический, многослойный и не проглядываемый человеческим глазом мир, который оказался для них совершенно незнакомым и непонятным. Глиняные стены оврага в хаотическом чередовании тьмы и света раздвинулись, сделав его огромным от неба до земли, бесконечным, словно только что открытая новая Вселенная и пугающе особенным своей опасной непознаваемостью для дневного животного под названием человек.
Осторожно пробираясь в длинных чередованиях темноты, ребята увидели, как одна из теней сама стала двигаться им навстречу, в отличие от всех прочих, имея зримый объем и форму. Она перемещалась в плотном ночном воздухе и, шевелясь в нем своими очертаниями, напоминающими человеческое тело, медленно выдвигалась к ним, при движении размахивая по склону около их ног длинным концом своим, чуть ли не по всему пространству оврага. Увидев, что Это идет прямо на них, Ромка схватил ком сухой глины и стал чертить вокруг себя круг, почти закончив его, вспомнил про Олежку, быстро втащил его внутрь и тут же амкнул линию.
—Крестись и говори, чур меня.
—Чего?
—Вот чего, — и Ромка стал тыкать себя щепотью пальцев то в живот, то в лоб, то в плечи.
Олежка, едва поспевая, попытался повторять его движения, а между тем тень приближалась все ближе, обретая собой более явственные очертания человека и становясь Петерсом.
Дойдя до круга, мальчик постоял перед ним и ничего не сказав, пошел дальше по дороге.
—Петерс, это ты?
—Да.
—А ведьмачиха тебя не сожрала?
—Ты же видишь.
—А это ты?
—Да.
—Перекрестись.
Петерс устало выполнил то, о чем его попросил Ромка и, придерживая гусли, пошел дальше. Обратную дорогу Ромка был очень разговорчив и все пытался узнать, что там случилось у них с ведьмачихой, но Петерс молчал, как будто и не слышал его.
Уже в поселке они подошли к своей любимой скамейке в скверике, и Ромка тут же сел на нее и при этом он оставил для Петерса лучшее, наиболее удобное место, где раньше, всегда мог сидеть только он сам. Но Петерс приглашения не принял.
—Мне пора, — сказал он и, не попрощавшись, пошел в сторону своего дома.
Это было грубым нарушением товарищеских правил и его надо было бы догнать, и дернуть за плечо или хотя бы что-то крикнуть вдогонку. Только Ромка почему-то догонять его не стал, а только упавшим голосом пожелал удаляющейся спине спокойной ночи.
На следующий день Петерс в школу не пришел. Он часто болел, так часто и регулярно, что учителя даже не спрашивали с него медицинских справок за пропущенные занятия и, в общем, никто в классе не обратил внимания на его отсутствие. На большой перемене пришел с небольшим эскортом Мамочка и поулыбавшись своей змеиной улыбкой побледневшим ученикам их класса, вопросительно уставился на Ромки и Олежки свежие царапины и синяки. Маленький бандит важно и понимающе покивал, выслушивая их подробный рассказ о крутой лестнице, и сказал, чтобы к субботе готовились к двум часам дня, и чтоб дружка своего, полоумного, тоже не забыли прихватить. Вот такой был определен им дальнейший порядок Судьбы, а только все произошло по-другому.
К субботе случилась серьезная стычка между царицынскими и заводскими из-за того, что кто-то кого-то подставил милиционерам по факту недавно ограбленного киска с папиросами. Разобраться точно, кто прав, а кто виноват, возможным не представлялось, и тогда к всеобщему удовольствию была назначена большая выяснительная драка в Бергилевском лесу. Сами Бергилевцы, приглашались на нее в роли рефери, но что-то не заладилось с самого начала, и драка сразу пошла между заводскими с царицынскими против бергилевцев. Те послали за подмогой, и в результате возникло практически неуправляемое всеобщее побоище, которое продолжалось до середины ночи. По его итогам несколько человек оказались в больнице, двое-трое из местной шпаны, кажется, сели, а один мальчик на всю жизнь остался инвалидом с переломанной спиной.
Этой дракой занималась даже милиция и еще, наверное, с неделю после нее у поселковой проходной можно было увидеть милиционера, а в царицынском парке разъезжали конные патрули. За этими вселенскими потрясениями избиение Ромки с Олежкой было сначала перенесено, а позднее из-за срока давности и вовсе полупрощено. В результате они всего то и получили несколько тычков по зубам на большой перемене, да и то не от Мамочки, а от двух его подручных. Петерсом вообще никто не интересовался, но он в школу все не приходил, и друзья решили обязательно зайти к нему домой и сказать, что опасности больше нет, и он может приходить на уроки. Да только их учительница в конце недели объявила классу, что Петерс выбыл, уехав с мамой к дальним родственникам на Урал.
По дороге из школы Олежка предложил к Петерсу зайти и узнать у соседей по коммуналке, куда они уехали с матерью, на что Ромка вяло соглашался, но потом передумал и ушел домой, а Олежка все таки пошел.
Из рассказа Бабы Мани, которая, как вечным караулом, сидела около подъезда, узнал, что машину им с фабрики на отъезд не дали и что ушли они с чемоданчиком и узлом, и что правильно, что не дали, так как нечего «ЭТИМ» машины давать, и что, понятное дело, за просто так машину не давать не будут и о правильно, что «ИХ» убрали, потому что скоро война, а Сталин умер, и хоть и хорошая была соседка, что можно было у нее завсегда муку занять к празднику, да вот только не пила совсем, а так хорошая женщина.
Потом баба Маня съехала насчет того, что Петерса мамка осталась ей должна полтора рубля и долго «вкручивала» Олежке про денежный долг, даже немного увеличив со временем сумму и все с надеждой заглядывала ему в глаза по поводу возвращения капитала. Под конец разговора, повспоминав немного невинно убиенных гусей, все-таки сообщила, что адреса не знает и что уже въехала новая жиличка, которая из их комнаты ненужные вещи уносит в подвал и что, может, она и слыхала, куда уехали.
Олежка хорошо знал устройство этого дома и пошел сразу к пожарному выходу из подвала, откуда до Петерса сарая было намного удобнее добраться чем через подъезд. Он пролез внутрь, затворил за собой люк и некоторое время сидел на уступе в стене, привыкая к темноте и вслушиваясь в длину, высокого тоннеля, стараясь не шуметь. Затем слез по замотанным в цементные тряпки отопительным трубам, и ступая на мысочках, дошел до угла, откуда можно было увидеть за последними тремя разбитыми сараями дверь кладовки, которая раньше принадлежала маме Петерса.
Дверь оказалась приоткрытой и около нее действительно стояли какие-то вещи, а отдельно и ближе в его сторону лежало несколько связок старых журналов и на них гусли. Олежка подошел ближе и проверил цела ли леска, потому что леска то была очень хорошая, но едва дотронувшись пальцами до струн, он почувствовал на себе чей-то взгляд, и оглянувшись, увидел в дверном проеме сарая ее, все ту же женщину, которую они встретили в овраге Только теперь стояла она рядом.
Мутный свет, пробивающийся из подвального окна, слабо выбирал ее из темноты и несмотря на всю опасность неожиданной новой встречи с ней, он прежде чем испугаться, все таки успел заворожиться ее красотой и нездешней ее неотмеченностью, следами плотской упругости и пьянства, которыми, как гербовой печатью были четко украшенные местные в три обхвата бабищи—здоровенные и мощные, коим не то что «коня на скаку», а и ядерный ледокол утопить одной рукой, казалось, труда особого не составляло.
Строго и расчетливо, придавая значение каждой части своего движения, женщина подняла руку и погрозила ему пальцем, и при этом пристально и очень запоминающееся посмотрела ему в глаза. И как неведомая сила подняла Олежку на ноги и вынесла из подвала, да так, что, выпрыгивая из аварийного выхода и гулко стукнувшись головой об изогнутые прутья решетки, он этого даже не заметил, а все бежал и бежал, не останавливаясь, через весь поселок на другую его сторону в Царицынский парк. И только там на их тайной с Ромкой поляне, вжавшись в надежные, широкие корневища высоченного столетнего дуба, он отдышался и успокоился немного. Это было надежное место. Царицынский парк и сам, кому хочешь, мог дать сто очков вперед по колдовству и тайным местам. Это была не ее земля, и тут он мог не опасаться, что она вдруг высунется откуда-нибудь из кустов и снова погрозит ему пальцем.
Ромка очень внимательно выслушал его рассказ и сообщил, что замещение это или не замещение, но ведьмачиха Петерса и его мать извела, и спрятала в сарае, заложив старыми вещами, и что нужно отогнуть верхнюю дужку щеколды замка на двери кладовки, и все там внутри осмотреть, но осторожно, так как с духами надо держать ухо востро и что в первую очередь им против ведьмачихи потребуется изготовить зажигательную бомбу, пузырек, две охотничьи, спички у него есть и что Олежке надо теперь только достать керосин.
На следующий день Олежка, покачивая бидоном, мялся в очереди, в керосиновой лавке и не веря тому, что Петерс и его мамка там, в подвале лежат. Думал о том, как они там лежат одни, заваленные старыми вещами, и как они с Ромкой наткнутся на них не живых, когда полезут в подвал.
Тетенька стоявшая в очереди перед ним получила наполненный бидон, повернулась уходить, и он обомлел: это опять была она. То ли не узнав, то ли не захотев его узнавать, она скользнула по Олежке взглядом и вышла из лавки. Его бидон наполнился керосином катастрофически быстро, Олежку выпихнули от прилавка, и ему теперь требовалось тоже уходить на улицу, следом за ней. Он знал, что там, за дверью располагался длинный, узкий тамбур, и из него еще одна дверь вела в нерабочую часть магазина, где было много широких полок для хлеба, ящиков и где сквозь вырванные доски зияли огромные дыры в полу в самый подвал, откуда она, наверное, и вылезла, и идти одному за дверь к спрятавшейся там ведьмачихе, которая схватит и утащит его в подпол он никак не хотел, так как вспомнил, что пока думал о Петерсе и его матери, она все время стояла перед ним и как бы в пол-уха обернувшись, вроде бы и прислушивалась к его мыслям и все теперь об их с Ромкой планах знала.
Он совершенно не хотел выходить из лавки и поэтому скромно встал у стены, и стал ждать, когда керосин купит здоровая, пузатая тетка, стоявшая в очереди за ним, чтобы пройти через тамбур вместе с ней. Но тетка сама стала ждать другую тетку, такую же, как она только еще пузатее и здоровее, которая стояла за ней и была, по всей видимости, ее подружкой. И это было здорово, так как Олежка чувствовал, что если он пойдет домой вместе с этими бабищами, то опасаться ему будет нечего, так как они сами, кого хочешь, прибьют, если захотят, и глазом при этом не моргнут. Но тетки получив керосин, пошли не на выход, а к скобяному товару и, перекрыв своими фантастически огромными задницами весь прилавок, стали там, что-то оживленно выбирать, а продавец, отпустив им керосин, объявил, что ему требуется сделать промежуточную смету и чтоб подождали.
Очередь принялась, было шуметь, но продавец сердито сказал, что если будут бухтеть, он вообще поедет на базу и лавку на сегодня вообще закроет, и даже для убедительности угрозы закрыл крышкой свой вонючий бак, и даже замок на крышку накинул. В очереди тут же замолчали и сразу стали сердито смотреть на Олежку, так как он керосин получил, да еще и стоит теперь с ним, а людям и так дышать нечем. И Олежке ничего не оставалось, как, поеживаясь под осуждающими взглядами неотоваренной очереди уходить на улицу одному.
Открывая дверь в тамбур, он первым делом заглянул в щелочку, образующуюся между косяком и дверью, когда она открывается, и никого там за дверью не увидел, тогда он быстро проскочил темную прихожую, и выбежал на улицу. Снаружи было солнечно, тихо, и никто его не подкарауливал у выхода, и все-таки что-то вокруг него было не так.
Свет был какой-то странный. Солнце светило вроде бы чересчур отчетливо, резко обозначая своим светом все предметы, неестественно контрастно и как-то нарисовано, как будто на декорации у Новогодней елки. А самое главное не было видно во всем пространстве улицы ни одного человека или какого-либо еще живого существа, пусто было по всей улице, как будто и не жил никто на ней. Зато он сразу же увидел ее, как она стоит на взгорочке и смотрит. Сгорбившись под ее взглядом, старательно не оборачиваясь в ее сторону, он так быстро, как позволял ему тяжелый бидон, пошел к своему дому и пока шел все время чувствовал ее присутствие. Не видя ее, как бы начинал видеть ее лицо внутри себя, пугаясь и винясь перед ведьмачихой за свои мысли под ее строгим, требовательным взглядом.
Перед самыми ступеньками крыльца он не выдержал и обернулся, и хоть и не было никого за его спиной, но он чувствовал, что она где то рядом и все еще следит за ним и смотрит на него.
С этого дня у него случилось новое и странное отношение к темноте. Он не боялся отсутствия света на улице, но темное помещение действовало на него пугающе, а о том, чтобы спуститься в подвал, даже подумать было страшно. По вечерам он боялся оставаться в квартире один, а если его родители поздно возвращались домой, прятался в угол дивана и почти не двигаясь, очень тихо сидел там, стараясь при этом видеть всю комнату сразу.
Вязкая тишина час за часом нависала над головой, и если ее прерывал какой-нибудь неосторожный шум или звук, там с ним становилось еще и хуже чем без него.
Мучаясь свалившимся на него несчастьем, Олежка тщательно скрывал свои страхи от всех, а особенно от своих новых друзей из клуба юных автоматчиков, где он проходил испытательный срок и куда его вот-вот могли бы принять. Дело осложнялось тем, что в их классе неожиданно заболел желтухой один ученик и Олежка очень забоялся, что и он вдруг заболеет этой заразной болезнью и тогда-то его уж точно в клуб не возьмут. Тревожился этими мыслями, и под их впечатлением каждый день находил у себя все новые признаки болезни.
Он никому не рассказывал о своих переживаниях, вконец, ими извелся, и вот как-то после уроков, тщательно скрываясь ото всех, проник вечером в темные развалины старой церкви на берегу Царицынского пруда. Стыдясь своего поступка от людей и самого себя, он встал перед высокой, испачканной нечистотами стеной и стал просить у разгромленного камня заступничества, обещая Богу, что поставит ему за это свечку.
Своего обещания он так и не исполнил - в клуб его взяли, а желтухой он заболел спустя примерно двадцать лет от описываемых событий. Закончив учебный год, он вместе с Ромкой перешел в старшие классы и школьные бандиты по действующему закону перестали к ним приставать, а его ночные страхи тоже, со временем, как-то незаметно прошли сами собой. С Ромкой он дружил до самого окончания школы, но что-то изменилось в их отношениях, они все чаще стали проводить время порознь и даже как-то раз сильно поругались по причине пропажи из их тайного убежища мельхиоровой вазочки, которая из всех вещей исчезла почему-то одна. Но потом они помирились и их до конца школьной поры и соученики, и учителя считали друзьями не - разлей вода. После школы они разъехались в разные места, раза два встретились в родном поселке, а потом перестали писать друг другу письма и не увиделись больше уже ни разу.
Режимную фабрику в поселке закрыли, забор разломали и сняли проходную на въезде. Бергилевский лес обстроили высоченными бетонными коробками и пришлые люди, поселившиеся в них, натоптали дорог через орешники, засыпав овражки с прозрачными родниками пластиковыми бутылками и порванными женскими трусами.
А сама Бергилевская балка почти пропала под вырытыми в ней отстойниками для тротуарной воды и бетонными опорами водовода. То, что осталось все как-то съежилось, высохло, помельчало и заросло пыреем. Дом, в котором жил Петерс, стал проседать в плывуне, когда изгиб стен хорошо определился на глаз, всех его жильцов расселили кого куда, вместе со всеми уехала и новая жиличка, поселившаяся было в Петерса и его матери комнатенке.
И той же осенью, как уехал из поселка Петерс к радости, наверное, всей школы в Бергилевском овраге, пристреливая поджиг, нечаянно убил себя Мамочка, почему-то конструируя новое оружие, он взял для фиксации ствола латунную проволоку, что было, конечно, намного красивее, но сильно проигрывало в прочности старому и испытанному варианту изготовления поджига. При выстреле трубу ствола сорвало, и она влетела ему в переносицу, ровнехонько между глаз.
Эммануил Эммануилович, преподаватель труда, физики и физкультуры был ко всему прочему и единственным лицом мужского пола во всем учительском составе школы, наверное, по этой причине его взяли в морг на опознание. Он не раз и очень обстоятельно рассказывал потом, как по положению тела милиционер определил, что мальчик стрелял в сторону болотистой низины оврага, почти не целясь, навскидку, не подготовившись, как следует. И что все, кто заходил в мертвяцкую, единодушно обращали внимание на выражение крайнего изумления и испуга, застывшее на лице маленького трупа.