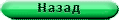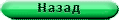БОМЖ
Большой город выплюнул его, не приняв в своё чрево, как не пытался он прижиться при маленьких магазинах, в подземных переходах среди прочих попрошаек и бомжей, в тёплых подъездах. Отовсюду его гнали, брезгливо морщились и грозили сдать в милицию.
Лишь однажды в каком-то подъезде, на самом верхнем этаже, где устроился он на ступеньках, сквозь дремоту привидилась ему женщина. Словно у божьей матери был светел её лик и печальны глаза, и протягивала она ему тарелку с вкусно пахнувшим горячим борщом и ломоть хлеба. Привыкший к окрикам и тычкам взашей он так и подумал, что это - сон. Покорно съел всё и запил чаем, а потом ещё и одевал на себя какие-то тёплые вещи, которые выносила ему из квартиры эта добрая душа.
Но так бывало очень редко. Чаще все и отовсюду гнали его.
Колёса стучали, под сиденьем перекатывалась пустая бутылка. Из динамика над головой булькнул голос:
- Следующая станция - Волокаламск.
Большой город выплюнул его! Куда он мог пристроиться со своей справкой об освобождении, в этой старой, обношенной одежде, всё время кашляющий, и с этой седой бородой, придающей совсем немолодой вид.
И ещё, память! После побоев на зоне что-то отмирало постепенно в его голове, выключались целые куски прожитого, года и места прежних жизней. Это было не больно, но мучительно, так как он никак не мог вспомнить, кем он был раньше и где вообще жил. Он не помнил, сколько прошло времени с тех пор, как он вышел за ворота лагеря. Не помнил, сколько провёл там лет и вообще за что. И лишь изредка что-то вспыхивало у него в сознании, словно на секунду мощный прожектор освещал затемнённые участки, и они превращались в солнечный день, быструю, шумливую речку, по берегам которой ещё лежит снег, переходящий постепенно в крошево льда у кромки воды. Высвечивался молодой мужчина в синих плавках с зубной щёткой в руке, который, смеясь, кричит в объектив нацеленного на него фотоаппарата.
- Увековечь меня! Я - почти "морж"!
Что это? Кто это? Где это?
Электричка, содрогаясь, затормозила, и он пошёл, натыкаясь на спинки пустых скамеек, пошёл в тамбур, а там почти вывалился на мокрый истертый перрон подмосковного Волоколамска.
Было холодно, осень выдалась сырая, жёлтая почти с первых своих дней и совсем без солнца.
Бродяга бездумно брёл по тихим улочкам старого маленького городка неизвестно куда и неизвестно зачем. Хотелось, есть и спать, ещё хотелось очень выпить, чтобы затихла эта тупая боль в голове.
На вокзале, там в большом городе, старая "бомжиха" от щедрот, а может в надежде на любовь и дружбу угостила его половиной стакана водки, но всё это уже выветрилось, и душа опять просила забвенья.
У магазина на окраине толпились мужики, группировались, разливали водку, пили что-то из железных банок, запивая всё это добро пивом, лущили воблу, дымили сигаретами и папиросами, спорили о чём-то своём, доказывая и матерясь.
- Мужики, слышь, закурить найдётся? - попросил он.
Давали закурить, жалостливо и брезгливо отворачиваясь.
- Совсем дикой мужик, ишь как опух, да оброс! Одним словом - "бомж". И продолжали о своём, о мужском: пьяном, но очень важном.
Подобрал несколько бутылок, пытался вытрясти в жаждущую глотку хоть каплю спиртного, но, увы, - сухо!
Из магазина выкатилась компания молодых, бритоголовых, накачанных. Стали в круг, с шумом открыли пиво, с удовольствием и жадно пили, обсуждая что-то тоже своё - молодое и наглое. Толкнулся к ним.
- Парни, не дайте погибнуть бывшему спортсмену. Трубы горят, погибаю!
- Ишь ты, мастер спорта по литерболу, - гоготнули те. - Катись! Работать надо, а не побираться.
Притулился на ящиках у " чёрного" входа в магазин и задремал. Колотун бил всё сильней и от холода, и с похмелья. И опять приснилось или привидилось, будто держит он стакан до краёв полный самогоном. Вокруг разливается замечательный запах браги и самогона, а он с гордостью кричит:
- Эй, женщина, смотри, что получилось. Отличный "первач"! Ну, как? Умеет твой муж самогон гнать? Ведь, в первый же раз!
- Ох, не дай бог, пристрастишься к этому зелью, - смеющийся голос принадлежит маленькой миловидной женщине, заглядывающей в сарай, где её муж приспособил собранный им самогонный аппарат. - Вернёмся в Москву, всех знакомых удивишь - геолог освоил самогоноварение при нашем-то "сухом" законе.
- Эй, ты! - грубый, пропитой голос ворвался в его видения. - Чего расселся-то? Канай отсюдова, ща хозяин выйдет, орать начнёт, и мне за тебя достанется.
Прямо над ним маячила небритая физиономия мужика неопределённого возраста, издавая родной запах перегара. Грузчик, а это был он, выдернул из-под сидевшего ящик для бутылок и почти спихнув его на землю продолжал.
- Давай, давай, отползай! Видишь, я - при исполнении! - И, икнув, пошатываясь, поволок ящик в чёрную тёплую дыру-дверь магазина.
Вернувшись и, видимо, решив, что достаточно напугал бедолагу, смилостивился и просипел.
- Проблемы?
- Дак, выпить бы хоть грамм сто, а то колотит очень, а денег нет. Я помочь могу за это.
- Да ладно, без понятия я что ли? Ща, вынесу.
Через пять минут он уже наливал из початой бутылки в пластмассовый стакан заветные сто грамм, бормоча при этом, что за такую "каторжанную" работу ему за каждый поднесённый ящик бутылку должны ставить.
- Ты закусывай, закусывай, - продолжал он, протягивая кусок хлеба с колбасой. - Тонька отрезала, она - баба своя.
- Спасибо, спасибо! - бормотал бродяга, прислушиваясь, как разливается тепло по желудку, как отливает тупая боль от мозгов и как становится опять всё - почти хорошо.
- Так ты откель такой нарисовался, вижу - не наш, не местный? На электричке штоль прибыл из Москвы?
- Да, да я оттуда! - махнул рукой куда-то в сторону. - Оттуда, издалека.
- Сидел что ли? Выцветший ты какой-то, да вот всё на корточках норовишь посидеть, как на зоне.
- Да, да, был, сидел. Долго был, уже не помню сейчас. Голова часто болит, всё забываю. Вспомню, а потом опять забываю.
- Били что ли, а за что сидел?
- За что? Не помню. Хотя...
И опять в затуманенных водкой воспоминаньях мелькают кадры словно в кино: горы, поросшие стелющимся кедрачом, палатки у их подножья, клубок дерущихся тел около разведённого костра и его собственный крик "прекратите, мать вашу, стрелять буду!". И выстрел, и вопль, и затем свой собственный стон, но уже сейчас, уже здесь, около этого магазина, в этом времени.
- Убил, я убил, - бормочет он, сжимая провалившиеся седые виски и раскачиваясь из стороны сторону.
- Убил! - ахнул грузчик. - Кого? Никак бабу свою али полюбовника её?
- Нет, нет! Своего рабочего, нечаянно. Я работал начальником геологической партии. Они напились, схватились драться на ножах. Я хотел разнять, нам выдавали тогда для охраны оружие, да, выдавали. Пистолет выстрелил. Понимаешь, я хотел в воздух, а попал в рабочего. А он - молодой, и - наповал! Вот-вот, налей ещё, налей, душа горит. Вспомнил, вспомнил, но лучше бы и не вспоминать. Всё было: работа, дом, жена. Ах, какая была жена! Везде со мной ездила, тоже геолог. Дочь была - маленькая, смешная.
- Уходи с дороги, кот, наша Танечка идёт! - забормотал он.
- Понимаешь? Стихи сочиняла, в пять-то лет. Го-о-споди, у меня же - дочь! Сейчас уже большая, наверное. Не видел, столько лет никого не видел. Сначала ездила в тюрьму жена, да, ездила. Свидания давали, потом в лагерь перевели далеко, под Комсомольск. Я сам, сам потом ей написал, что не хочу ничего, что долго сидеть буду, что уже не тот я, и пусть жизнь свою устраивает, а все её письма и передачи обратно отправлял, чтоб не тратилась. О, господи, уж лучше и не вспоминать!
- Ну, мужик, ты даёшь! Баба должна терпеть и ждать. Я бы своей мурло начистил, если что.
- Ты не понимаешь. Жизнь моя была кончена, а за что её-то губить. Потом я бежать пытался, ох, пытался. Знал ведь, что везде - болота, работал там раньше. Не убежишь, некуда! Вот она - железная дорога, вот - Амур и - всё. Перекрыли отходы и поймали. Били потом сильно. Ох, били как! Всё отбили: почки, лёгкие, мозги. Это охранники от злобы, что пришлось за мной побегать, да и премии их лишили, вот и поизмывались. Потом срок добавили, ну тут я совсем сломался - пить начал. Там в лагере всё можно достать: и выпивку, и курево, и "дурь". От побоев, да от выпивки крыша совсем поехала - стал всё забывать. Да оно и лучше, не так всё больно.
- И где ж баба твоя с дитём-то?
- Не знаю да и знать не хочу, - он со стоном потряс головой. - Да нет, вру я, вру. Восемь лет отсидел, и где-то уже второй год до Москвы добираюсь. Сначала, как срок "отмотал" в Хабаровске осел, пока все деньги не пропил. Жили в люке канализационном с одним "сидельцем", там тепло зимой, около труб с горячей водой. Потом подработали, дальше поехали. Но запивал я сильно, плохо всё помнил, ох, плохо. Болеть сильно начал, кашлять. Одно только хорошо: выпью - вроде легче. Налей, налей ещё!
- Ну, уж хватит! Мне и то хватит, а то Тонька орать будет. А тебе и подавно, того гляди, сомлеешь, и куды я тебя дену-то. Ты, слышь, чего к бабе своей не пошёл?
- Не помню, ничего не помню, ни адреса, ничего. Москва - другая, чужая, гонят отовсюду. На вокзале жил долго, не знал, куда податься. Вспомнил, что где-то жили раньше, что нужно было на электричке ехать. Но, куда? Да, мне и не надо ничего от них. Кто я теперь? - бормотал он, раскачиваясь, будто уговаривая сам себя. - Стыдно им за меня будет, пью я, болею. Умереть бы! Вот только страшно где-нибудь, в канаве замёрзнуть, на холоде.
- Да, дела-а! - протяжно засипел грузчик, перекатывая в щербатом рту обсосанную, потухшую сигарету.
- Ну и чё, вы расселись тут? - визгливый женский голос взорвал сгущающийся сумрак дня. - Ишь пикник у их тут, беседы, а работать кто будет? Опять приваживаешь пьяниц и сам надираешься. Давай, давай отсюдова, алкоголик грёбаный, - наступала она на скорчившегося в пьяной тоске бродягу.
- Тонь, Тонь, ты чего? Горе у него, мыкается по жизни.
- Да пошли вы! Вечно вы своё горе водкой заливаете. Пошёл! Ящики бери, бутылки класть некуда. А ты, приблудный, давай отсюда, а то милицию позову.
Бродяга встал с корточек и пошёл, пошатываясь, побрёл куда подальше от её визгливого голоса, который словно иголками впивался в болевшую, затуманенную водкой голову.
Шёл, разговаривал сам с собой. Редкие прохожие как от чумы шарахались от его нелепой, покачивающейся фигуры.
Тьма пеленала стоящие вдоль дороги дома и палисадники возле них. Деревья угрожающе ощетинивались голыми сучьями с оставшимися на них кое-где трепыхающимися от ветра листьями. И дорога постепенно пропадала, становясь невидимой. Кое-где стали зажигаться огни в окнах и на улице в фонарях, далеко отстоящих друг от друга.
Городок по мере удаления от привокзальной площади постепенно превращался в деревню, а вскоре дома и вовсе исчезли. Бродяга продолжал медленно тащится по дороге, которая перешла из асфальтовой в грунтовую. Он шёл и разговаривал сам с собой:
- Где же это я жил раньше в Москве? Вроде ехать нужно было электричкой. До какой же станции? Там дома большие были, многоэтажные. Мы на самом последнем этаже жили. Помню, помню! Дочка тогда родилась, я ремонт в квартире делал, торопился к их приходу из роддома всё закончить. Девочка маленькая была, прямо на подушке помещалась, такая маленькая, пальчики - крохотные, - задохнулся он от этой возникшей перед ним картины.
Вот жена, убирая волосы со лба, поворачивает к нему лицо, которое так и светится любовью к маленькому свёрточку у её груди.
- Посмотри, ей всё мало, уже вторую грудь опустошает. Вот это аппетит! Ты имя придумал, Володенька?
- Девочка! Пускай пока будет Девочка. Я ещё не придумал. Это ведь на всю жизнь - имя. Оно должно ей соответствовать, - он застонал, согнувшись от этого видения. Где это всё, в каких годах его жизни? Опять забормотал горячечным речитативом:
- Или в избе жили? Избу помню, огород, колодец, сарай, где самогонный аппарат ставил. Собаку ещё помню, Чёртом звали. Господи, да где же это всё было? Снегом, снегом избу заваливало до самой трубы. Вспомнил! Это ж когда мы на Севере жили, в посёлке около рудника. Подработать поехали на три года. Дочке тогда пять лет было. Ох, давно это всё было, так давно! Где это я сейчас? - он остановился, озираясь по сторонам.
Вокруг тёмной стеной стоял лес, а дорога была почти не видна, но куда то уходила дальше в черноту наступившей ночи, в её холод и промозглую сырость.
Бродяга натужно закашлял, сгибаясь пополам, отплёвываясь и сжимая взрывающуюся болью голову заледеневшими, скрюченными пальцами.
- Господи! Куда приткнутся, куда? Где дома, где люди? Подохну ведь тут как последняя собака. Куда дорога-то ведёт, куда? Нужно идти, может деревня будет, в деревнях люди добрее. Мне бы согреться, выпить бы, да и согреться.
Озноб бил его всё сильнее, заставляя почти бежать, проваливаясь в холодную чавкающую грязь. Мелкий начавшийся дождик с ветром сёк лицо, и не подо что было спрятать пылающую голову, шапка сгинула где-то на стоянках его пути домой.
По сторонам стали появляться маленькие домики, окружённые заборами и без них, но в окнах не было света. Странная тишина стояла вокруг этих домов, словно люди все внезапно умерли или покинули их.
- Что это? Куда все подевались, куда это я попал? - испугался бродяга.
Толкнулся в ближайший дом, стучал в запертую дверь. Потом нащупал висевший на двери замок и побрёл дальше, бормоча:
- Ну, кто-то же живёт здесь? Ведь дома это - не сараи.
Ветер усилился, дождь тоже. Стало ещё холоднее, и казалось, что вот-вот повалит снег.
Стуча зубами и вытирая лицо, добрёл он до другого дома, тоже с тёмными окнами и с запертой дверью.
Повалился на крыльцо под крышей, спасаясь от усилившегося дождя, и с нарастающим ужасом понял, что если сейчас не попадёт внутрь дома, то просто умрёт здесь.
Долго тряс входную дверь, она была лёгкой, и гвозди в петлях, на которых висел замок постепенно стали выползать и, наконец, выскочили из отсыревшего дерева, и он втиснулся внутрь небольшого помещения, похожего на маленькую террасу. Шагнув дальше, он споткнулся о какую-то мебель, рухнул на пол, приходя в себя от тяжёлых усилий, и зашёлся тяжёлым кашлем.
Оправившись от приступа, дотянулся до двери, закрыл её как можно плотнее и стал наощупь, постепенно привыкая к темноте, исследовать помещение. Добрался до каких-то полок, случайно смахнул посуду и вздрогнул от звона рассыпавшегося на мелкие осколки на полу стакана. Нашёл коробок со спичками в полиэтиленовом пакете. Обрадовался такому подарку. Долго чиркал обламывающимися в трясущихся пальцах спичками по коробку, и, наконец, одна загорелась, освещая неровным светом стол и буфет около него. Увидел свечку в кружке.
- Вот, молодцы, вот, молодцы! - похвалил он хозяев. - Сейчас зажгу, сейчас свет будет.
Жёлтый колеблющийся язычок осветил другую дверь, закрытую на задвижку, отодвинув которую он попал внутрь комнаты, где было теплее, потому что не продувалось, и здесь ещё не успел поселиться окончательно холод. Увидел низкую тахту с одеялами и подушками.
- Ничего, ничего, я ведь только переночую, мне бы согреться. Если придут, объясню. Я ничего не взял, не украл. Мне бы только согреться, поспать. Сил уж никаких нет! - вернулся он на террасу. - Наверное, еда есть хоть какая-то, ведь люди же тут бывают, живут.
Открыл дверцу буфета, посветил туда свечкой, увидел сухари и банку тушёнки и совсем сомлевшими руками, боясь разбить драгоценную ношу, вытащил бутылку водки, видимо оставленную хозяевами для своих целей.
- Господи, господи! Вот ведь радость-то, вот что нужно. Сейчас, сейчас, оживею.
Захватив всё найденное, вернулся назад в предстоящее тепло сытой еды, выпивки и постели.
Устроив свечку на маленьком, журнальном столике ножом кое-как открыл банку с тушёнкой и прямо из горлышка, смакуя, глотал живительную для него горючую, сорокаградусную жидкость. Оторвался, чтобы перевести дух и, занюхивая чёрным сухарём, уже жадно ел с ножика куски застывшей в желе тушёнки.
Оттаивала душа, желудок, комком свернувшийся от голода и холода, распрямлялся, и тяжелели ноги от подступающего к ним от этого самого желудка тепла.
Сбросил мокрые, грязные, раздолбанные ботинки и набухшее от сырости длинное чёрное пальто и, забравшись на тахту, навалил на себя всё, что лежало поверх матраса и чем можно было укрыться.
Согреваясь, долго смотрел в дощатый потолок невидящим взглядом на колеблющиеся от свечки тени, потом обвёл взором стены маленькой комнаты, оглядывая чужую жизнь в виде старого трюмо, шкафа и ещё одной маленькой кушетки. Какие-то картины на стенах, какая-то вырезанная из дерева голова бородатого мужика с горбатым носом, в чалме, похожего на древнего мудреца с Востока. Стоп! Что это? Что промелькнуло в горячей от жара и водки голове? Почему знакомо ему это?
Сбросив навороченное на себя, пошатываясь, побрёл к низенькому шкафу, где стояла эта вырезанная прямо в куске дерева, как бы выглядывая из него, голова. Схватив, проводил пальцами по выступающим шероховатостям дерева, по знакомым линиям выточенного лица. Что? Что брезжит в угасающей вечно памяти? Там, на зоне, он часто вырезал из дерева всякую мелочёвку для охранников, чтобы обменять на курево и спиртное. Но это!
Трясущимися руками схватил бутылку, пил уже не закусывая, как будто хотел подстегнуть память этим. Повалился на тахту вместе с деревянной скульптурой, трясясь от подступившего вновь озноба, закутывал одеялом и себя, и этого, мудро взирающего на него.
Проваливаясь в спасительную дремоту, опять с радостью высматривал, приближал к себе картины своего прошлого бытия:
Топиться печка в избе. Ленивого кота по имени Кусюн жена безуспешно пытается согнать с печки. Смеётся:
- Лапы, лапы поднимай, стервец! Хвост уже почти дымится. Смотри, Володя, до чего тяга к теплу доводит.
Девочка пяти лет играет с большой чёрно-рыжей собакой - изумительной смесью ротвейлера с каким-то "дворянином".
- Папа, Чёрту очень идут бантики, посмотри!
Собака жмурится, пригибая страшную, лобастую голову и даже не дышит от удовольствия. Смешно и нелепо свисают красные бантики с её ушей.
Сам он, расположившись в соседней комнате, ловко орудуя инструментами, режет светлое мягкое, податливое дерево и кричит жене.
- Женщина, ужинать пора! На голодный желудок ничего не получается.
- Что это, Володенька? Кто это будет?
- Не знаю. Получается какой-то дед.
- Очень похож на Хотабыча. Я так в детстве любила эту сказку.
- Вот пусть и будет - Хотабыч! Пускай вас охраняет, когда я на участки в тайгу улетаю, а то вы здесь одни, без мужика, остаётесь.
- Да-да, если бы ещё он дрова колол, да воду приносил, да снег отгребал, да ещё... - она хитро улыбнулась.
- Ну, размечталась! А ты попроси его об этом хорошенько. Пускай волосок из бороды выдернет и произнесёт своё знаменитое "трах-тибидох-тух-тух". Сейчас ему бороду вырежу и глаза из этого зелёного ластика вставлю, чтобы всё видел.
Бродяга вздрогнул всем телом, вынырнув из опять пришедшего прошлого, сел и, вновь вытащив деревянного мудреца, уставился в его глаза, сделанные им самим когда-то.
- Что это? - застонал опять покачиваясь. - Как здесь оказался этот Хотабыч? Обвёл глазами комнату.
- Не узнаю, ничего не узнаю! Это ведь не та изба.
Тогда, возвращаясь в Москву после окончания работ по контракту на месторождении, забрали они с собой эту скульптуру. Жена настояла, очень он ей нравился. Хотабыч висел у них на стене в городской квартире, надзирая за порядком.
- Но, как же он здесь-то оказался. Ведь не Москва же это! Какие-то дома в глуши, среди леса, - обвёл опять глазами всю комнату, и что-то знакомое стало подступать, властно пробуждая память.
Вот ещё какие-то картины на стенах, их он тоже знает. Вот старенькие шторы на окнах, такие же висели у них дома, и это трюмо - старое с отбитым в углу зеркалом. Стоп! Что это за фотография там прикреплена? Долго смотрел, поднеся к ней свечку: женщина с молодой девушкой, обе улыбаются, и так знакома улыбка этой женщины, что холодная пустота ухнула в желудке, а голова вновь взорвалась иголками боли.
- Нет-нет, тут что-то не то! - застонал он.
Опять схватил бутылку и долго глотал успокаивающую жидкость, чувствуя, как снисходит великая благодать забывчивости, и только жалел, что с каждым глотком становится всё меньше этого успокаивающего его душу зелья.
Повалился на тахту и благостно погрузился в свои видения. Сон был тяжёлым и глубоким, водка и ослабленный болезнью организм сделали своё дело. Ворочаясь от иногда взрывающего всё тело кашля, бродяга задел рукой свечку, стоящую на журнальном столике около тахты, и она упала набок, но продолжала какое-то время гореть, роняя горящие капли воска на матерчатую салфетку, которая разом вспыхнула.
Медленно и постепенно разгораясь всё больше и больше, огонь пополз по столику, жадно облизывая лакированную древесину, и далее вниз на пол, на висевшую рядом штору, на одеяло, захватывая всё новые и новые территории. Дым и жар наполнили пространство небольшой комнаты.
Солнце ярилось в небе. Пронзительно кричали чайки над сизо-синим морем, и волны, ползущие на песок, лениво лизали пятки двум разгорячённым, загорелым телам.
- Мы - сумасшедшие, Володенька! Ну, кто коньяк селёдкой закусывает?
- Так ведь селёдка какая! Тихоокеанская! Кит, а не селёдка, и прямо из бочки. Свежак! Где ещё такое возможно?
- Но, ведь даже ни кусочка хлеба нет.
- Зато арбуз какой, смотри! Пойдём, искупаем его в Японском море. Видишь, плывёт, значит - спелый. Зарежем его!
- М-м-м, как вкусно! Слушай, да ты обгорел, обгорел на солнце. Больно? Больно!!!
Больно было повсюду, в каждой клеточке тела. Но ещё было трудно дышать, а он всё втягивал и втягивал воздух остатками своих лёгких, стремясь наконец-то вдохнуть чистого, которого уже и не было в комнатке. Полыхало всё в этой маленькой деревянной дачке, принадлежащей его семье и уже оставленной на зиму одиноко стоять в дачном посёлке недалеко от Волоколамска.
Какая злая ирония, какой рок привёл именно сюда, на эту дачу, после стольких лет мыканья по жизни этого бедолагу. Он шёл домой уже давно и почти пришёл, и сейчас его душа улетала вместе с дымом в ночное небо, к долгожданному покою, и только угасающее сознание ещё ловило картины прошлой жизни: два тела на пустынном песчаном пляже под слепящим солнцем, в далёкой, маленькой бухте Японского моря. Двое счастливых и полных любовью человека, у которых вся жизнь ещё впереди, и они ещё не знают, как распорядятся ею.
Домик горел, и откуда-то уже ехали машины, и бежал сторож дачного посёлка, причитая и ахая от увиденного пожара.
Тушить было нечего, да и не за чем.
Домик горел, и вместе с ним сгорала так хорошо начавшаяся и так нелепо закончившаяся жизнь.
Путник! Вот ты и пришёл к дому своему.